tvi55
Команда форума
- С нами с
- 27/05/08
- Постов
- 4 385
- Оценка
- 2 121
- Живу в:
- Санкт-Петербург
- Для знакомых
- Владимир Иванович
- Охочусь с
- 1994
- Оружие
- ИЖ-27М, ОП СКС 7.62х39
- Собака(ки)
- Умерла.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Пичугин Михаил Павлович, мой родной дед. Заслуженный партизан Белоруссии. Не сохранилось ни одного снимка моего деда в юности (что не удивительно, он родился в дореволюционной деревне Урала), нет снимков его зрелых лет - он воевал и работал. Не до фотографий было.
Только когда выросли его дети и старший сын Коля (мой отец) увлёкся фотографией, только тогда и были отсняты и проявлены снимки моего деда Миши. Перед моими глазами теперь он такой, каким я его в детстве видела и знала. Моё преклонение перед ним, его мощной личностью, было больше простой любви маленькой внучки к очень пожилому деду. Я интуитивно чувствовала в нём груз пережитого и того, что не может уйти из памяти, что призывает бессонницу, что ожесточает речи. Но при всём этом, все, кто знал его, кто был рядом, знали и его справедливость, бесконечное терпение, и доброту к людям. Доброту и снисходительность человека, видевшего и пережившего многое.
Недавно среди бумаг моего дедушки, Пичугина Михаила Павловича, мы нашли и его мемуары, литературно обработанные его женой, моей бабушкой, Анастасией Амвросиевной, всю жизнь проработавшей учительницей. Старики ни разу не пробовали обнародовать свой литературный труд, понимая, что дедушка, не умея лгать или "обходить острые углы", написал то, что должно "вылежаться", прежде чем сможет достучаться до сердца читателя.
Сегодня, читая многочисленную аналитику или бравурные "реляции" о скорых и быстрых наших победах в возможной войне с "ожесточённым подранком", "бывшим" мировым "гегемоном"... невольно вспоминаешь строки мемуаров моего деда, описывающего подобное же время, но только сто лет назад…
Я предлагаю вам, читатели, вернуться назад, в 1940-41 годы.
Прочитайте.
Вспомните.
Или узнайте заново.
В текст мемуаров дедушки я буду вводить исторические справки и собственные стихи.
Ирина Николаевна Пичугина, внучка.
Скупые строки анкеты...
Место рождения: деревня Крутогорье, Санчурский р-н, Кировская область, РСФСР
Дата рождения: 1893 год
Национальность: Русский
Партизанский отряд: 25-й отдельный отряд (Якушко, И.А.) (Шкловская военно-оперативная группа)
Награды: медаль "Партизану Отечественной войны 2-ой степени" (1944г), орден Красной Звезды (вручён в 1948г).
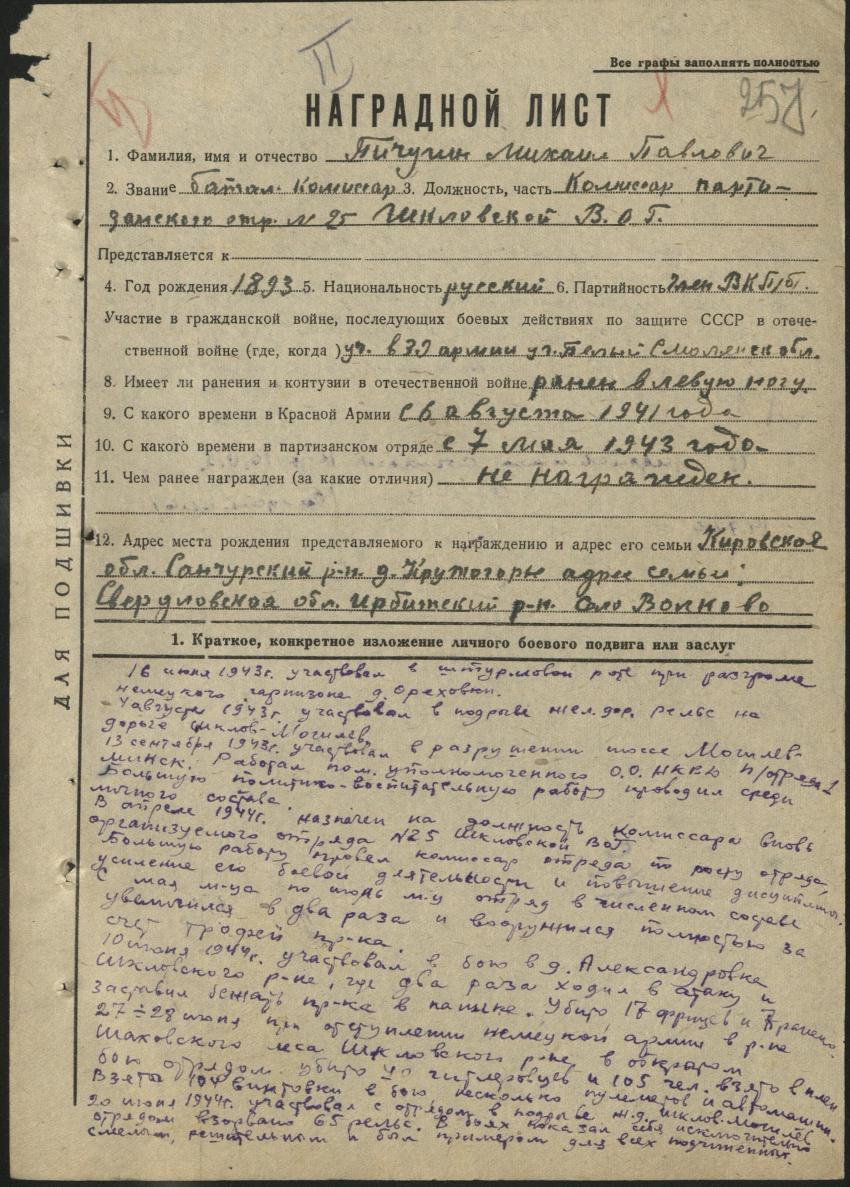
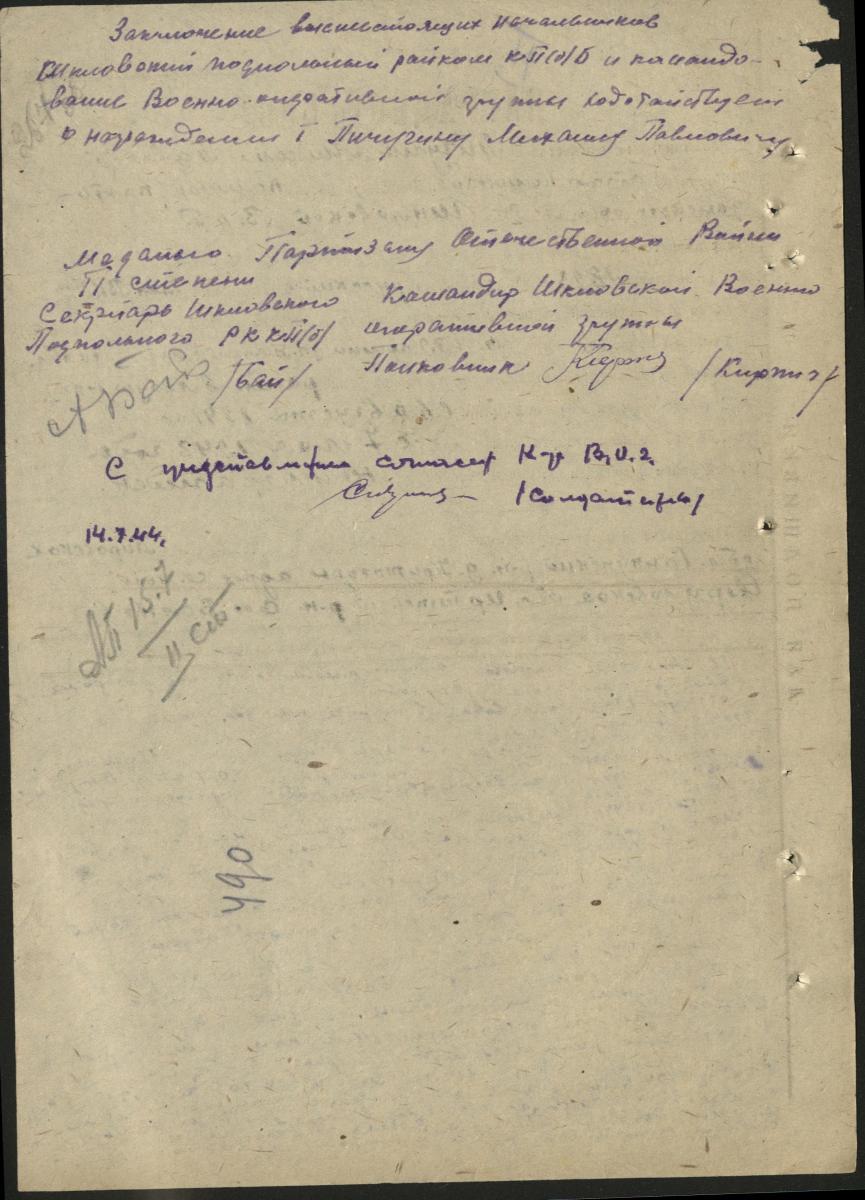
Последняя должность: Комиссар отряда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1. Начало Великой Отечественной войны. Призыв в армию.
Великая Отечественная война застала меня на работе в Ирбитском районном комитете ВКП(б)в должности заведующего отделом пропаганды и агитации.
В близкую возможность нападения на нашу страну фашистской Германии мы не верили. Не давала к этому повода и Советская пресса, партийные директивы, лекционная пропаганда.
Мне лично казалось, что мы, то есть СССР, занимаем выгодное нейтральное положение. Я был иногда в душе не прочь и позлорадствовать над судьбой несчастных, как мне тогда казалось, Англии и Франции:
« Вы отвергли наше предложение дать коллективный отпор агрессору, - мысленно обращался я к правящим кругам Франции и Англии ,-
вы проводили политику невмешательства и попустительства агрессору. Ну и пожинайте плоды вашей двурушнической политики».
В лекциях о международном положении тогда сверх меры выпячивалась наша военная и экономическая мощь, наше превосходство над фашистской Германией в военном отношении.
Это мне не нравилось. Я был участником Первой Мировой войны и видел, что из себя представляет немецкая военная машина.
Учитывая уроки Первой Мировой войны мне казалось удивительным наше спокойствие и беззаботность, наше легкое отношение к весьма солидным вооруженным силам фашистской Германии.
Это легкое отношение к противнику я видел и наблюдал также и со стороны офицеров Советской Армии, в том числе и своего младшего брата Ивана, который тогда был в звании майора. Мне казалось, что теперь, как никогда, Германия – это опасный враг.
21 июня 1941 года к нам прибыл лектор обкома ВКП(б), фамилию его не помню, с лекцией о международном положении. На этот раз произошёл последний разговор о взглядах лектора на международное положение СССР.
«Как вы думаете, - обратился я к лектору, – не нарушат ли немцы договор о ненападении? Не обрушат они на нас всю машину войны?»
«Что вы, разве это можно! Гитлер не будет воевать с нами, пока не покончит с Англией.»
«Но, а когда покончит?» – говорил я.
«О, тогда мы грянем и как буря сметем все фашистские и империалистические силы Европы. Силы наших врагов тают, а наши силы возрастают!»
«Твоими бы устами, да мед пить», – подумал я.
Утром 22 июня бедный лектор, услышав в гостинице по радио голос В.М. Молотова о нападении на нашу страну фашистской Германии, «как буря» ринулся обратно в Свердловск, не заходя в райком ВКП(б).
Все последующие сутки, затем еще сутки, в райкоме никто не ложился спать, «бодрствовали», как будто от того что либо менялось в общей обстановке. Мне все же казалась смешной эта наивная бдительность.
Я отчётливо понимал, что война будет длительной, а не сутки или двое, как думали мои молодые коллеги.
5 августа 1941 года меня вызвал к себе первый секретарь райкома А. Паршуков. Произошел короткий разговор:
« Михаил Павлович! Уральский военный округ требует дать им от нашего района одного товарища в звании батальонного комиссара. Помимо тебя нет никого в районе в таком звании. Что ты думаешь?»
Я ответил, что моя жизнь принадлежит Родине. Куда меня необходимо послать, туда я и готов отправиться.
Паршуков рассмеялся:
« Михаил Павлович, дорогой мой! Да тебя совсем никто не думает посылать на фронт, какой уж из тебя солдат – сорок восемь лет, больное сердце. Нет-нет, тут совсем другое имеется ввиду. По секрету сообщу тебе, что тебя хотят использовать комиссаром окружного госпиталя в Свердловске. Сам я был комиссаром госпиталя в финскую войну. Работа очень интересная, условия хорошие, приличный оклад и я потому и не задерживаю твою кандидатуру, что считаю сделать тебе лучше. С работой, я уверен, ты справишься вполне.
Ну как, согласен?»
« Лучше бы послали меня на фронт, - возражал я,- не люблю я тыл, всегда как-то презирали тыловиков в первую мировую войну».
Паршуков улыбнулся:
« Да ты, брат, все еще храбришься. Но нет, пусть молодежь пока повоюет. А старики уж потом пойдут на фронт, в крайнем случае. Так решено?»
«Ладно, - промолвил я, - пусть используют, где лучше для дела.»
Комиссий медицинских я никаких не стал проходить. Но в моих военных документах значился миокардит первой степени, значит - ограничено годен.
Года два до того меня тщательно осматривал лучший врач Ирбитской больницы, Зубов. Говорил: «Э, батенька мой, из Вас никакого солдата больше не выйдет, сердце слабо работает.
… Спокойствие, меньше работать, не курить, не пить и, главное, режим!»
Да-а... Впоследствии, в 1943-44 годах, будучи партизаном, я делал переходы в летнюю ночь по пятьдесят - шестьдесят километров, до десяти километров в час, то есть - бегом всю ночь. И почти каждый раз на бегу вот этот разговор с врачом Зубовым приходил мне на память...
Дома мой призыв в Армию встретили очень спокойно. Все были уверены, что я буду служить в городе Свердловске, прилично получать, опасности никакой. Младший сын мой, Вовка, которому было семь лет, смотрел на меня с некоторым презрением: «Какой, мол, ты вояка в тылу-то, и пистолета никто тебе не даст повесить сбоку».
Мы имели корову, а косить в семье кроме меня никто не мог. А теперь стало и некому.
Жена просила все же поучить ее косить.
На второй день я взял её с собой на луга, учил, как косить, точить косу, да вряд ли чему научил.
Вечером меня проводили на вокзал, и я уехал в Свердловск, совершенно не думая о том, какая тяжёлая военная страда мне предстоит в будущем.
Часть 1. Глава 2. Комиссар полевого госпиталя.
Я спокойно спал в вагоне почти до самого Свердловска. От военкомата я имел направление прибыть в распоряжение социального отдела Уральского военного округа.
Из штаба меня направили к комиссару окружного госпиталя, которого, по призыву, я должен был заменить. Комната комиссара помещалась в здании окружного госпиталя.
День был ясный, теплый. Раненые, которые могли ходить, все вышли на балконы, многие гуляли в саду возле госпиталя, везде были разговоры, смех, шутки. На лицах раненых сияли радости жизни, выздоровления. О том, что их снова пошлют на фронт, мало кто думал.
И опять, как в первую мировую войну, я слышу разговоры о превосходстве противника в вооружении, об умении немцев воевать…
Один из раненых, молодой раненый солдат с широким умным лицом, плотный, широкоплечий, очень уморительно рассказывал, как они драпали от немецкой мотоциклетной роты:
«Дан нам был приказ задержать противника на шоссе у местечка N. Окопались, лежим в траве, нас совсем не видно. Вдруг впереди нас поднялось огромное облако пыли, затем треск и дикий вой - «хах, хах, хах»! Прямо на нас мчалась немецкая мотоциклистская рота. Лежали мы в густой траве возле леска. Немецкие мотоциклисты одной рукой правят-рулят, а другой, прижав автомат к пузу, стреляют куда попало. Мы тоже открыли огонь. Вдруг, позади нас загремели частые хлопки автоматного огня. "Окружили!" - завопил кто-то диким матом, мы кинулись удирать по лесу вправо. Только потом мы поняли, что немцы стреляли разрывными пулями, которые разрываясь, действительно сильно хлопали.»
Впоследствии, уже будучи комиссаром партизанского отряда, я тоже испытал на себе такое «окружение».
Рассказ раненого солдата вызвал у меня чувство какой-то неприятной досады.
«Почему же у нас - думал я, - мало автоматов? Ведь, кажется, еще финская война научила нас уважать это оружие!»
И вот я в кабинете у комиссара окружного госпиталя, которого призван был заменить. Передо мной на стуле еще довольно молодой мужчина лет 38-44 на вид, плотный, среднего роста, с чистым приветливым лицом, в звании политрука, то есть с одной шпалой в петлице. В Армию он пошел добровольцем, и я почувствовал, что этот товарищ просто «смертельно» полюбил окружной госпиталь и прочно занял исходные позиции для борьбы со мной, присланным. Забегая вперёд скажу, что так по его и вышло. Он остался "добровольцем" в Свердловске, я уехал с полевым госпиталем на фронт в строевые части.
Посмотрев мои документы, он ничего не сказал, подумал немного и крикнул в открытую дверь соседней комнаты: «Николай Александрович!». Из соседней комнаты к нам вышел мужчина лет под пятьдесят, суховатый стройный, по-видимому довольно крепкий. Тонкое, чистое, продолговатое лицо, но с большой горбинкой. «Поповской породы» - почему-то подумал я и не ошибся. Николай Александрович Пономарев, врач областной больницы, был действительно сыном священника, как я узнал потом.
« Николай Александрович, – обратился комиссар к вошедшему - вот вам комиссар госпиталя, познакомьтесь.»
«Начальник полевого госпиталя Пономарев», - промолвил тот, подавая мне руку.
« Пичугин», - ответил я, пожав ему руку.
«Вы на какой были работе?» - обратился ко мне Пономарев.
« В должности заведующего отделом пропаганды и агитации», - ответил я.
«Хорошо, очень хорошо, - обрадовался Пономарев, - следовательно, Вы политическую работу знаете, а я ведь воспитатель никудышный.»
Комиссар улыбнулся:
«Значит сошлись, пишите направление».
Тихо промолвил я, когда писал под диктовку: «Пичугин Михаил Павлович направляется комиссаром восемьсот пятьдесят восьмого полевого инфекционного госпиталя… Вот тебе, брат, и «комиссаром окружного госпиталя в Свердловске».
«Ну, - обратился я к Пономареву, - пошли в госпиталь, где он у вас?»
Пономарев рассмеялся.
«Пока госпиталь – это я и Вы. Нам с Вами придется заняться его формированием.»
Я ничего не ответил, и мы вышли на улицу. Затем вскочили оба в трамвай и прибыли на улицу Щорса, недалеко от барахолки, в пустующее здание начальной школы, где и должен был формироваться госпиталь. Ночевал я один в пустой школе, в углу одной из комнат на подстилке из сена, которую нашел во дворе школы. Было тепло, и я не нуждался в одеяле, а прибыл я в Свердловск в одном костюме. На второй день к нам были прикомандированы: начальник финчасти Белов из Невьянска и начальник материальной части Епифанов, член партии с 1919 года, начальник свердловской конторы «главчерметсбыта», тоже добровольцы.
Впоследствии, я встретил их приятеля Громова, комиссара в санитарном отделе округа, тоже доброволеца. Меня удивляло, почему все эти "добровольцы" не пошли на фронт в строевые части? Только потом я убедился, что такие "добровольцы" именно этим своим «добровольством» занимали места несравненно более безопасные, чем те, кто по мобилизации. Ведь по мобилизации непременно пошлют в отдельную часть на фронт.
Епифанов и оказался дрянь-человеком: пьяница, лгун, трус презренный, он причинил мне много вреда потом, при формировании полевого госпиталя.
Постепенно состав госпиталя увеличивался. Прибыли тринадцать шоферов и человек двадцать пять санитаров, затем три врача женщины, медсестры, фармацевты. Стали мы получать и машины, оборудование, обмундирование и все необходимое.
Старшиной был прислан Усольцев Петр Павлович, парень хороший, непьющий, вежливый и спокойный, бывший председатель колхоза «Победа» Егоршинского района. Усольцев был членом ВКП(б).
Из санитаров выделялся некто Иван Малов. По-видимому, фамилия Малов ему была дана в насмешку. Он был почти два метра ростом, по профессии шахтер с Егоршинских копей. Как и большинство егоршинских шахтеров Малов был горьким пьяницей. Для меня началась постоянная мука со всеми этими шоферами, санитарами, они пьянствовали, уходили в город, не спрашивая ни меня, ни начальника госпиталя.
Я не был кадровым военным Красной Армии, не считая моего кратковременного пребывания в ней еще в 1918 году под Пековым. Тогда я и получил звание батальонного комиссара, что равнозначно майору. Но мои шофера и санитары, все, оказались бывшие кадровые красноармейцы. Знали, что такое воинский устав и дисциплина. Однако, в сравнении со старой Армией, в которой я служил почти четыре года, эта дисциплина казалось для меня какой-то фальшивой, наигранной. Беспрекословного подчинения и выполнение приказаний не было. За положенным ответом: «есть, слушаю и т.д.» обязательно шли обязательно дополнительные разговоры, пререкания - «отрыжки митингования».
«Нет! - думал я, - с такой дисциплиной, мы не победим немцев».
По старой привычке я иногда громко перебивал рассуждающего: «не разговаривать, повтори приказания» и нередко давал «мата».
Однажды Малов явился ко мне, сильно выпивши, и привел с собой какого-то молодого человека лет 25-28. Молодой человек был почти трезвый.
«Вот, товарищ комиссар! – заплетавшимся языком начал Малов, - я привел к вам самого настоящего шпиона».
«Почему ты думаешь, что это шпион?» – молвил я.
« Я, товарищ комиссар, хоть и пьян, но сразу вижу шпиона. Вместе мы с ним сначала пиво пили в «американке», а потом он начал меня спрашивать, где я живу, что я делаю».
« Дальше что было?» – перебил я Малова.
« Дальше я повел его к Вам, пусть, мол, комиссар разберется».
« Где работаешь?» – быстро спросил я у "шпиона".
« На заводе «Урал обувь».
« Какой цех?»
« Седьмой, товарищ комиссар».
Я позвонил – мне ответили, что такой рабочий у них действительно работает, и работает хорошо.
« Можешь пойти» - сказал я рабочему, сердито глянув на сконфуженного Малова.
Следующий день у меня целиком ушел на то, чтобы пристроить Малова на гауптвахту на четырнадцать дней. Все гауптвахты были битком забиты.
С «губы» Малов вернулся сильно осунувшийся, бледный. «Теща», как в шутку звали «губу», плохо кормила «своих неисчислимых зятьев». Малов, как мне передали, дал торжественную клятву «свернуть голову комиссару». Но «клятву» эту Малов так и не выполнил. Судьба впоследствии разлучила нас навсегда.
Безделье – самый страшный враг человека, это я знал и раньше, а теперь особенно почувствовал на своем собственном госпитальном опыте.
Никто никаких указаний нам не давал: чем именно должен заниматься личный состав госпиталя. Вместе с начальником госпиталя мы самостоятельно составили расписание занятий.
В эти занятия я включил строевой устав, всю военную муштру, какой подвергался сам в старой армии.
Изучение винтовки, автомата, гранатки, ручного и станкового пулемета. Со стороны начальника госпиталя - занятия по вопросам медицины и всего того, что должен знать и уметь личный состав госпиталя.
Дело у нас закипело:
- вставали в шесть часов утра,
- ложились спать после поверки в одиннадцать часов.
Заниматься ходили по изучению пулеметов в дом офицеров километров за пять, проводили тактические занятия.
Ползали на брюхе по болотам, по грязи, все, и санитары и санитарки, медсестры, фельдшера и даже фармацевт, нежная дамочка с ярко-накрашенными губами.
Узнали об этой нашей строевой подготовке и комиссары других комплектующихся госпиталей. Они резко обозвали наши порядки «аракчеевским режимом», а меня «николаевским фельдфебелем».
В одно прекрасное утро прежде, чем приступить к занятиям, у дверей моей комнаты собралось все мое «верное воинство». Постучали в двери. И «парламентером» вошла фармацевт Коровина.
«Товарищ, комиссар! – начала Коровина, - личный состав госпиталя считает Ваши действия неправильными! Ни в одном госпитале воинские занятия не проводятся, люди не ползают по болотам как у нас и…»
«Довольно! – рявкнул я на Коровину, - чем вы хотели заняться? Губы красить? Кокетничать? В любовь играть? В других госпиталях пока еще не комиссары, а мальчики, они ещё не знают, что такое на самом деле война!»
Все же я вышел на двор, усадил всех моих людей на лужайку и начал с ними самую нужную для них беседу. Я рассказывал, что полевой госпиталь будет почти всегда у самой линии фронта. Я прочитал им несколько газетных статей, где рассказывалось о том, как санитары и санитарки госпиталя задерживали огнем наступающего противника, пока через реку переправляли раненых солдат, о том, как девушки санитарки на себе выносят раненых с поля боя... И многое другое.
«Я требую, чтобы каждый санитар - продолжал я, - мог править автомашиной, чтобы автомашиной могли править медицинские сестры, фельдшера и врачи.
Вы провожаете раненых, - говорил я, - ваша машина попала под обстрел, шофера ранило, кто поведет дальше машину? Оставить ее с людьми на дороге под обстрелом, можно ли так?!»
Долго и сильно я говорил о том, что все мы должны стать настоящими и умелыми солдатами. После этой беседы никто больше не возражал против строевых занятий, учились водить машину, поломали все заборы на окраинах Свердловска и все же, впоследствии, все это пригодилось. Сестра Котова, провожая больных на автомашине, заменила сильно раненого шофера Щелгачева и спасли людей, сумела вывести машину из под обстрела.
Постепенно мы приобретали материальную часть госпиталя, получили двенадцать автомашин, одну «дезкамеру», полевые носилки, белье и все прочее необходимое.
Получили и обмундирование. Командный состав спешил перешить, щегольски обузить широкие солдатские шинели, но я не стал заниматься этим делом. Подобрал шинель настоящую, солдатскую, широкую, длинную и плотную. Петлицы все же пришили в мастерской и на них две шпалы. Комиссарских отличий я не носил, и меня принимали за командира какой-либо части в звании майора.
В конце сентября всех моих санитаров забрали в строевые части, в том числе и того самого "буяна" Малова, который простился со мной задушевно и трогательно. Вместо санитаров мужчин, нам дали санитарами человек пятьдесят девушек из города Свердловска. Большинство из них имело среднее образование, многие - с первого курса института. Все пришли с путевками Комсомола добровольцами, пожертвовав всем ради служения Родине. Как отличались эти молодые, честные добровольцы от тех... «добровольных тыловиков», упомянутых мной ранее в повествовании. Просто приходилось удивляться, как стойко эти юные девушки переносили все невзгоды военной солдатской жизни.
Эти девушки прямо самозабвенно изучили все, что требуется санитару, медсестре и не было ни одного случая, чтобы кто-либо нарушил порядок, заведенный нами в госпитале.
Впоследствии им приходилось иногда голодать по нескольку дней, мерзнуть и мокнуть под дождем. Не спать подряд неделями, дежуря у постели больных и раненых солдат, переносить ужасы налета вражеской авиации. Обмывать и перевязывать гнойные ужасные раны. Очищать от кишевших на теле вшей больных, раненых, привезенных с позиции,
И никогда от этих девчат я не слышал ни одной жалобы на тягости военной жизни! Они всегда были исполнительны, тверды и жизнерадостны. А ведь в основном они были из хорошо обеспеченных семей, привыкшие к семейному уюту, родительскому вниманию и ласке.
Да, вот именно они и были настоящие, скромные, патриоты и герои, отдавшие Родине все: молодость, красоту, счастье семейной жизни и свою молодую жизнь.
И почти все они погибли на фронте в первые годы войны.
Слава родителям, слава Комсомолу, воспитавшим таких мужественных девушек и я склоняю свою седую голову перед их светлой памятью.
Часть 1. Глава 3. Одни сутки дома.
Жизнь в Свердловске ничем особенным не отличалась, и писать об этом нет надобности. Почему-то все мы с нетерпением ждали отправки на фронт.
В половине ноября я получил разрешение съездить домой на одни сутки. Порядки были введены в армии очень строгие. Самовольная отлучка свыше двенадцати часов считалась дезертирством, а дезертиров расстреливали.
И вот я дома.
Моя семья с квартиры на втором этаже переместилась на квартиру в нижний этаж, в маленькую комнату, более теплую, меньше надо будет дров. Жена уже готовилась к борьбе с нуждой, которая стучалась в двери домашних большинства призванных в армию.
В простой солдатской широкой шинели с петлицами майора я шагал по улицам города, а Вовка, маленький, живой, бежал со мной, держась за руку, и если какой либо солдат, встречаясь, неаккуратно отдавал честь, Вовка мерил его презрительным взглядом и шептал: «Черт неуклюжий, честь не научился отдавать».
Да, Вовка не шутя был воинственно настроен.
Затем я зашел в четвертую школу посмотреть, как учится старший Коля. Колю мы отдали в школу, когда ему уже минуло восемь лет. Был он очень худенький, бледный и довольно робкий. Пошёл он в школу, как и положено было, в семь лет. Каждый день я давал ему рубль на завтрак в школе, а учащиеся в той же школе ребята из детского дома каждый раз отбирали у него этот рубль в воротах школы, да иногда еще и пинка давали. Ему строго было ими наказано молчать и не говорить об этом дома, Коля молчал.
Однажды у меня не было рубля, и я дал ему три рубля. Вечером я вспомнил, что дал Коле три рубля и попросил сдачу. Парень мой сильно смутился, потупил голову и молчал. Я почуял что-то неладное и попросил его сказать правду. Коля никогда, ни разу, не говорил мне неправду и все чистосердечно рассказал теперь.
Мы решили с женой передержать Колю дома еще год, пусть подрастет и наберется сил, иначе он может попасть под влияние хулиганов. И вот теперь, придя в четвертую школу, я убедился, что мы поступили правильно. Коля вырос и окреп, никто уже не осмеливался просить с него рубль.
«О», - говорила мне учительница, - «он у нас теперь самый большой и сильный в классе».
Глава 4. Отправка на фронт.
На фронт из Свердловска мы всем госпиталем выехали 19 ноября 1941. Стояла теплая туманная погода, порошило, земля уже была покрыта значительным слоем снега. Уезжали вечером, в двадцать ноль-ноль. Я сходил на почту, вызвал по телефону Ирбит-райком и попросил дежурного послать за женой на квартиру.
Произошёл прощальный наш с ней короткий разговор. Помню, я давал какие-то маловажные советы и сообщил, что поедем на запад. Не знаю у всех ли людей такое настроение перед серьезной разлукой, но у меня всегда в такой час как-то все вылетает из головы. Она делается совершенно как бы пустой, мысли исчезают напрочь, не знаешь о чем говорить, и это очень мучительно, так как сердце в то же время мучительно ноет, болит, тоскует и хочется, в конце концов, «сократить» срок расставания.
Помню, как я провожал брата Ивана в Красную Армию после его побывки дома, кажется в 1925 году. Дело было зимой, в ноябре. Погоды стояли довольно теплые. Провожал я его на лошади, на санях. Отъезжали мы от дома верст сто глухой уральской тайгой, доехали до «Туринского» болота. Ширина этого болота –10-12 километров. Санная дорога только до болота, дальше пошла узкая тропа. И вот мы стоим у края нашей дороги, дальше ехать нельзя, а до Туринска, то есть до железной дороги сто тридцать четыре километра.
« Ну, Ваня! Простимся, - говорю я, - придется тебе шагать пешком до Туринска». Ваня, молча, набросил на плечи котомку, вынул кисет, мы свернули по «цигарке» и закурили. Курили и молчали оба, выкурили по одной, завернули еще по одной и Ваня промолвил сжато и глухо словами из романа или рассказа Джека Лондона «Это была их последняя сигара! Прощай!». Встретил я его после это только в 1934 году...
Так получилось у меня и при разговоре с женой по телефону. Мы по сути дела поздоровались и простились, то есть сказали друг другу: «Здравствуй и прощай». Я ещё что-то говорил, кажется, советовал переехать жить в деревню...И только...
В Торжке. Первые раненые и мои впечатления.
...Что-то около месяца мы формировались на территории Вологодской области, и наш полевой инфекционный госпиталь был придан вновь сформированной ЗУ армии.
(Примечание: у деда написано "ЗУ". Вероятно, Ударная армия - УдА ,3-я ударная армия. Управление армии было сформировано в ноябре 1941 года в Московском военном округе как управление 60-й (с конца 1941 года — 3-й ударной) армии и руководило в период Великой Отечественной войны действиями соединений и частей в составе Северо-Западного, Калининского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского и (с декабря 1944 года) 1-го Белорусского фронтов.
Следует особо отметить, что воины именно 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии памятным днём 1 мая 1945 года водрузили Знамя Победы над зданием Рейхстага.)
Из жизни Вологодской области в период формирования армии в памяти запечатлелся один эпизод, о котором я писал в письмах своим ребятам.
Мы в составе: начальника госпиталя, меня, врача Пономарева, еще пятерых врачей другого госпиталя, ехали на грузовике из города Никольска в село, где был расположен наш госпиталь. По сторонам дороги был уже глубокий снег, маленькие поля и перелески. Вдруг метров ста от дороги показалась рыжая лисица с большим пушистым хвостом и долго бежала параллельно дороги. Один из врачей выхватил пистолет и выстрелил в лисицу, но та, не обратив даже внимания, и спокойно ушла в лесок. Звери к тому времени стали привычны к звуку выстрелов.
О разгроме немцев под Москвой мы узнали уже в дороге на фронт. Радости нашей не было конца, да и не только нашей. Радость сияла на лице каждого человека, кого я видел в ти дни. Появилась твердая вера в нашу победу.
Россия «раскачивается», заявил мне один железнодорожник с большой черной бородой, и я с ним был согласен. Да, думалось мне, мы действительно только еще раскачиваемся. 3У армия, в которую влили и наш госпиталь, состояла из сибиряков и уральцев, людей стойких и мужественных.
Широки, необъятны, величественны и суровы просторы Урала, Сибири. Дремучие непроходимые леса, обширные степи, высокие горы, многоводные реки и широкие озера, над которыми вечно стелются волнистые белые туманы. В суровой борьбе за существование веками здесь человек отвоевывал свое право жить и творить. Преобразуя природу, человек преобразует и себя.
В жестокой схватке с морозами и вьюгами, суровой тайгой и хищным зверем закалялась воля уральца, сибиряка. Дикая необъятная ширь, безбрежная свобода, просторы, вдохнули здесь в человека неукротимый дух свободы и независимости. Уральцу и сибиряку присуща чистая и святая, как материнская слеза, любовь к Родине, к России, ко всему русскому. Только в таких условиях смог выковаться тип уральца и сибиряка: мужественного, стойкого храбреца, крепкого умом и русской природной смекалкой. Крепкого физически, верного товарища в бою и невзгодах солдатской боевой жизни.
Помню еще в первую мировую войну, когда в опасных местах фронта появились сибирские части, противник не имел успеха, не смотря на огромное превосходство в технических средствах войны. И только по мере того, как таяли в ежедневной боевой страде ряды сибиряков, нарастала дерзость противника.
Вот из таких замечательных людей состояли полки и дивизии ЗУ армии.
Но вооружение их было, по правде говоря, плохое.
Мало танков, совершенное отсутствие авиации.
Мало даже автоматов, минометов и артиллерии.
Это сильно бросалось в глаза, когда мимо нашего госпиталя проходили в бой наши войска.
...Ранним морозным утром мы высаживались на станции Торжок. От сильного мороза, густой туман окутывает станцию, и город это спасает от очередного налёта вражеской авиации.
Мы едем городом. Печальное зрелище представляется нашим глазам. Удары вражеской авиации сильно разрушили городок. Три дня шестьдесят немецких самолетов безнаказанно громили город с воздуха. А нашей авиации совсем не было видно.
Немецкие летчики издевались. Вслед за фугасными, бомбами они бросали пустые бочки, обломки рельс, пустые ведра, пивные бутылки и т.д.
Дома сгорели, разрушены, обгоревшие тополя, воздев кверху чёрные сучья, как бы говорили: «Смотрите, что сделали с нами враги».
Древний город Торжок, в нем еще самозванец Димитрий венчался с гордой полячкой Мариной Мнишек. А городок, видать, был хорош: маленький, плотно застроенный, прямые широкие улицы.
Я вспомнил кинофильм «Парень из Торжка». Нигде, я думаю, не пели до войны с таким чувством знаменитую песню «Любимый город», как в самом Торжке. Белые чистенькие домики утопали в зелени садов, чистые прямые улицы, на две части город разделяет река.
Гроза воздушного налета разрушила Торжок, три дня и три ночи сотни немецких самолетов бомбили город, дома разрушены, сады сожжены,.
Молча проходили части армии через сожженный и разрушенный город, пустынный, как кладбище, неся к фронту закипевшую злобу о ненависти к врагу, шли для расплаты за все.
Переехав через реку по уцелевшему каким-то чудом мосту, мы остановились за городом у пустой городской больницы. Больница, по такому небольшому городу, более чем прилична, построена в густом саженом лесу и, благодаря этому, уцелела полностью, только стекла в рамах были выбиты от сотрясений и воздушной волны.
В саду возле больницы мы разгрузили все имущество нашего госпиталя. Там ещё вместе с нами расположился и другой госпиталь. Личный состав двух госпиталей был устроен недалеко от больницы в маленьких деревянных домиках на уцелевшей от бомбежек улице.
И тут же мы получили приказ от начальника санитарного отдела армии, военного врача третьего ранга Рязаного:
«Подготовиться к приему раненых».
Фронт находился от Торжка в двадцати пяти километрах - началось наступление наших войск. Ночью пылающие села и города показывали, что противник отступает. Особенно ярко горело местечко Селижарово, где были большие цементные заводы. Иногда на линии фронта раздавались глухие и сильные взрывы, это немцы оставляли память о себе.
Городскую больницу мы быстро привели в порядок: очистили от мусора комнаты, починили рамы, наделали топчанов и приготовились к приему раненых. Наш восемьсот пятьдесят восьмой госпиталь был инфекционный, то есть, по борьбе с различными заразными болезнями, и у нас не было ни одного хирурга.
Наши инфекционисты, врачи и сестры, очень плохо умели делать перевязки и, тем не менее, нас заставили принимать раненых. Хорошо, что вместе с нами расположился хирургический госпиталь, и мы распределили обязанности. Наш госпиталь будет делать предварительную обработку раненых, обмывать, дезинфицировать, подготовить завтрак, обед и так далее, а хирургический будет производить операции и эвакуировать раненых в тыловые госпитали.
...Морозы становились всё сильнее и сильнее, ночи стояли светлые, лунные. И почти каждую ночь прилетал немецкий самолет и бомбил единственный оставшийся мост в городе через реку, Удивительно,но ни разу ни одна бомба не угодила на мост. Местность вокруг моста была буквально изрыта воронками. Самолет иногда появлялся и днем, спокойно делал свое дело, и никто ему не мешал, так как зенитной артиллерии не было, авиации тоже.
Приближался новый 1942 год, близкий фронт гудел, как надвигающаяся гроза.
Морозы становились все злее, как говорят, «с дымом». И вот в одну из таких морозных ночей к нам прибыла первая партия раненых, что-то около двенадцати автомашин. Каждая машина была временно приспособлена для перевозки раненых, то есть на кузовах машин были установлены брезентовые пологи.
Легкораненые ехали сидя, человек до двадцати на одной машине, а тяжелораненые лежали на походных носилках, поставленных в один ряд на пол кузова машины. В таком случае, на каждой машине помещали не более четырех носилок. Раненых к нам везли прямо из медсанбатов фронта, где им оказывалась первая помощь.
После потери крови раненые очень плохо переносили мороз. Многие лязгали зубами от холода и просили скорее взять их из машины. Тяжелораненые глухо стонали, слышались иногда вскрики, но, в общем, все себя держали себя геройски и терпеливо дожидались своей очереди, когда их снимут с борта.
Санитары и санитарки нашего госпиталя трудились самозабвенно, стараясь всячески помочь раненым. Быстро все машины были разгружены, а раненые перенесены в теплые помещения, где их обмывали, поили горячим чаем, поправляли сбившиеся за дорогу перевязки. Когда примерно через час я зашел в помещение, где располагались раненые, я увидел такую картину: все были умыты и прибраны, санитарки поили чаем тех, кто не мог встать. Многие аппетитно курили, на лицах раненых сияло довольство тепла и уюта, у каждого была во взгляде надежда на жизнь. А только два-три часа тому назад эти люди были в бою, часами лежали где-либо в снегу раненые, истекая кровью и теряя надежду сохранить жизнь. Но теперь они далеко от фронта, сытые и в тепле.
Раненый командир роты, молодой пехотный лейтенант, рассказывает лежащему рядом с раздробленной ногой артиллеристу, командиру батареи, как его батарея помогла им, пехоте, в бою.
«Знаешь, Саша, - говорил комроты, - не знаю, что было бы, если бы ты не помог нам артиллерийским огнем. Раз восемь наш батальон поднимался в атаку на эту деревню и каждый раз мы отступали с огромными потерями. Немцы превратили ряд домов в сильно укрепленные дзоты и беспощадно косили наши цепи пулеметным и минометным огнем. Уже стемнело, а мы всё ещё не могли взять деревню. Вдруг мне сообщили, что из штаба армии прибыли сам начальник штаба и комиссар полка, которые поведут полк в атаку на деревню. Уже было темно, когда раздалась команда и весь полк во главе с комиссаром полка снова ринулись в атаку.
Огонь немцев был ужасен, но меткой стрельбы с темнотой стало меньше. Моя рота уже ворвалась в деревню, когда меня ранило. Кровь так и хлещет, а перевязать нет возможности. Оказавшийся против меня немецкий дзот пулеметным огнем не дает подняться ни мне, ни моим бойцам... И вдруг, я вижу, как ты, Саша, катишь с бойцами свою пушку на передний край. Еще минута и прямой наводкой немецкому дзоту глотка была заткнута!»
Командир батареи слабо улыбнулся:
«Коля! Я рад, что помог тебе в эту трудную минуту. Прямой наводкой бить хорошо, но из всего орудийного расчета в живых остался, кажется, только я один. А комиссар полка, который водил полк в атаку - вон лежит на носилках с оторванной ногой и прострелянной грудью. Начальник штаба убит, мы несем ужасные потери, беря штурмом каждую деревушку...»
...Впоследствии я проезжал по следам нашего наступления и, действительно, каждое подобное наступление обходилось очень дорого. Немцы в таких деревнях крайние дома превращали в сильно укрепленные дзоты и оставляли в них только пулеметные расчеты и эти пулеметные расчеты, всего 15-20 человек состава иногда истребляли целые наши те же батальоны!
Так мы расплачивались за глупую линейную тактику.
В марте 1942 года мне пришлось быть на совещании госпиталей ЗУ армии. На этом совещании я узнал, что мы пропустили раненых через госпитали за два- три месяца больше всего первоначального численного состава нашей ЗУ армии, при прибытии её на фронт! Но при этом освободив от противника лишь незначительную территорию!
Это была бесцельная и бездумная трата живой силы нашей армии!
Итак, наш госпиталь занимался только подготовкой раненых для хирургического госпиталя, который расположился тут же в саду. В одно из моих дежурств стояла сильно морозная погода.
Температура на улице доходила до минус сорока градусов, госпиталь был уже заполнен ранеными, но прибывали все новые и новые партии... и скоро весь двор больницы был заставлен машинами с ранеными. Мороз давит, раненые стонут, многие почти замерзают, молят поместить их хотя бы в коридоре или еще где-либо, лишь бы не замерзнуть во дворе. Они вырвались из когтей смерти там, на поле боя, и конечно, умирать на дворе госпиталя...
Вбегаю в здание госпиталя, смотрю, палаты заполнены так, что свободно можно переставить койки и разместить еще столько же раненых. Коридоры тоже совершенно свободные! Кричу на санитаров, сестер и прочих, чтобы немедленно сносили раненых со двора в госпиталь, а мне отвечают, что дежурный врач больше не разрешает принимать раненых.
Сказать, что это меня сильно удивило, не сказать ничего. Я кинулся в комнату дежурного врача. За столом сидел седой человек и спокойно писал что-то в толстый журнал.
«Знаете ли вы, - закричал я, – что во дворе в машинах в сорокаградусном морозе замерзают раненые!»
«Что же я могу поделать, - ответил врач, - я и так принял в госпиталь больше, чем положено по плану и больше принять не могу ни одного человека.»
«Дурак!- не вытерпев, закричал я, - да разве на фронте в боях ранят и убивают ежедневно по плану? Да знаете ли вы, что пока мы с вами разговариваем, здесь, у самих стен госпиталя, люди умирают из-за вашей тупости и преступного равнодушия!»
Врач вскочил на ноги и с перекошенным от злобы лицом закричал:
«Я не позволю оскорблять меня! Я - дежурный врач, и сам отвечаю за все! И не ваше дело вмешиваться в мои распоряжения! Я на вас буду жаловаться начальнику санитарного отдела армии».
Потеряв всякое самообладание, я схватил этого идиота за руки, вытащил из-за стола, ударил рукояткой пистолета по столу и крикнул:
«Если через десять минут все раненые не будут внесены в госпиталь, я застрелю Вас, как собаку!»
И с силою швырнул его в коридор госпиталя. Сам сел за стол, положив перед собой часы и пистолет.
Прошло десять минут, врач не показывался.
Я вышел в коридор, где стояли носилки с ранеными, в палатах койки были сдвинуты и приняты новые раненые. Я вышел во двор, ни одной машины с ранеными во дворе не было. В течение ночи прибывали еще две партии раненых и все были приняты. Вместо положенных трехсот пятидесяти коек, мы приняты тысячу четыреста пятьдесят человек, нарушив всякие правила - таковы законы войны.
А на второй день вызвали меня к приехавшему начальнику санитарного отдела армии военврачу третьего ранга Рязанову. Встретил высокий, лет тридцати пяти красавец мужчина, богатырского сложения, физически развит, красивое простое русское лицо. Перед ним лежал рапорт побежденного мной ночью врача.
«Читайте!» - жёстко сказал Рязанов.
Я прочитал.
«Ну как, товарищ батальонный комиссар?»
«В этом рапорте всё истинная правда, товарищ начальник санитарного отдела армии».
И надо сказать, что врач, действительно, ни одного слова не выдумал и не убавил.
«Я восхищен объективностью мошенника», - сказал я.
Рязанов долго и внимательно смотрел мне в лицо, потом, чуть улыбнувшись, сказал:
«Я понимаю обстоятельства, заставившие Вас поступить так, но ... категорически запрещено так делать».
Впоследствии мы стали хорошими друзьями и с Рязановым, и с врачом, который прямо заявил мне, что он был совершенно дурак до стычки со мной, и что эта стычка заставила его смотреть на обстановку иными глазами.
Вот так-то.
Только личный опыт может быть критерием истины.
Глава 5. В деревне Дарьино.
По пути наступления наших войск.
20 декабря 1941 года ЗУ армия перешла в наступление на Ржевском направлении. Снега были в эту зиму ужасно глубокие.
Наступление вели без танков и авиации.
Противник отступал медленно, все же наши войска продвигались в день километров по 14-15. Моральное состояние нашей армии было прекрасным.
Героизм наших войск и ненависть к врагу крепли в ходе наступления. Бойцы видели теперь своими глазами врага в лицо, а не по газетам. Сожженные села, тысячи расстрелянных, повешенных оставлял враг на пути отступления. Проходя по местам вчерашних боев, я видел мстительную ярость наших бойцов, как правило, каждый убитый немец лежал с разбитой вдребезги головой. И если это не успевал сделать солдат, это делали женщины и подростки.
А немцы, отступая, жгли деревни. Ночью весь фронт казался кроваво-огненной лентой, из которой временами раздавались сильные взрывы. Столбы огня высоко поднимались к небу. Это немцы взрывали наши промышленные предприятия: цементные заводы в Селижарово и другие.
Впервые от местных жителей и бойцов мне пришлось услышать о немецких зверствах. Рассказывали, что одна женщина не могла снять сапоги с убитого немецкого офицера, тогда взяла топор и «оттяпала» мерзлые ноги. Принесла их в избу и в присутствии красноармейцев, которые зашли к ней погреться, забила ноги немца с сапогами в печку, оттаяла их и затем сняла с них сапоги. Эта её «бесчувственность» объяснялась ненавистью. Тем, что у неё немцы застрелили шестилетнего сына только за то, что его звали Владимир.
В другом доме немецкий офицер по-русски спросил пятилетнюю девочку:
«Где твой папа?»
«Летает...»(отец девочки был советским летчиком).
Фашистский выродок вынул пистолет и пристрелил девочку.
Много передавали потрясённые жители сведений и о других зверствах фашистов. На горьком своём опыте наш миролюбивый народ учился по-настоящему ненавидеть врагов, и враг почувствовал эту ненависть и ее грозную силу.
Но были среди народа и такие, которые сживались с немцами и изменяли Родине.
И ешё, были такие, которые хотели оставаться «нейтральными». Пусть их всех, воюют, наше, мол, дело - «сторона». И «хата моя с краю, ничего не знаю».
Вот у такого "нейтрала" мне пришлось однажды стоять на квартире в деревне Дарьино Калининской области, где мы приступили к оборудованию полевого госпиталя.
Этому мужичку было лет шестьдесят. Семья их состояла из четырех человек: хозяин, жена, сноха, внучка. Сын его отступил вместе с Красной Армией, он был кандидат в члены ВКП(б). До войны сын служил в районе, и теперь его семья очень боялась немцев. Сам мужичок этот в Первую Мировую войну служил денщиком у офицера.
Их, то есть денщиков, презрительно называли «холуями». Часто – за дело.
У меня была водка, и я иногда угощал старика, а он мне платил за это большой взаимностью: стлал мне постель, ходил за обедом, по нескольку раз за ночь он подходил ко мне и поправлял сбившееся одеяло. Такого любовного отношения к себе я в жизни не встречал ранее.
Деревня Дарьино только что недавно была освобождена от немцев, немцы из этой деревни были выбиты неожиданным ударом и не успели при отступлении сжечь ее.
Подвыпив однажды, мой старик «денщик» вступил со мной в откровенный разговор:
« Знаешь, комиссар, - начал он, - я тебе как Богу скажу всю правду, что я думал, как началась война. Ты хоть меня прямо в НКВД веди, а я всё скажу, что думал.»
«Что же ты думал?», - спросил я.
« Думал я, когда немцы заняли деревню, что все пропало. И советской власти конец, и России конец.»
«Ну, а теперь как думаешь?»
«Теперь думаю - немцам конец. Озлился наш народ до ужаса! Его теперь не удержать, до Берлина дойдут, и сами немцы говорят об этом. Когда наши стали наступать, у нас в дому жили четыре немца - поварами работали на солдатской кухне. Так вот, один из них, рыжий такой верзила, вбежал к нам в избу и кричит: «Лус озлился! Немец капут!».
«Я тебе прямо скажу, - болтал «мой холуй»,- Советскую власть я когда любил, а когда и нет. И немцев - когда боялся, а когда и нет. Думал иногда: «а не все ли равно за кем жить, может, еще и землю дадут в единоличное пользование при немцах – хозяином буду, как и раньше». А по деревне болтали, что немцы привезут много товаров, магазины будут торговать ситцем, сукном, колбасами, ветчиной и прочим.
И вот - приехали немцы.
Сидим мы, значит, за обедом: я, жена, сноха и внучка. Хлеб на столе, два каравая.
Слышим, топают немцы на крыльце. Вошли в избу четверо, у двоих большие мешки в руках, ну, думаю, не иначе как колбасу носят раздавать, сахар и еще что-нибудь.
Встал я из-за стола, поклонился им, говорю: «Милости просим, господа, покушать нашего хлеба с нами». Один, высокий, черный такой немец – морда длинная лошадиная - а ручища… , я думаю он никогда не мыл их, до того грязные. Подошел этот верзила ко мне, хлопнул меня ручищей по плечу, оскалил лошадиные желтые зубы и говорит: «Гуд Лус, гуд Лус!», значит «хорошо, хорошо!», а потом провел ручищей по столу, и мои два каравая хлеба как корова языком слизнула со стола - стукнулись оба в мешок.
Я и рот разинул - вот так колбаса, ветчина, сахар – получил! Другой немец хлопает по плечу мою старуху и бормочет: «Матка, яйки! Герман зольдат, кушать надо!».
Встала моя старуха, подошла к шкафу у печки, достала корзину с яйцами – три десятка в ней было - и деликатно так, с улыбочкой, подает им четыре штуки. Мол, вот вам по штуке на брата, примите на здоровье. Этот, который с лошадиной мордой, опять заорал: «Гуд! Гуд лус!». Потом взял всю корзину и передал другому немцу «на, мол, неси». Потом и пошли шарить, и пошли...
« Счастье мое, что хоть я не боялся немцев, но все же на всякий случай хорошее-то всё надежно припрятал. Так они и барахло забрали!»
Старик так комично представил в лицах всю сцену, все своё разочарование в отношении немецкой «доброты», что я неудержимо захохотал. Немного погодя начал смеяться и мой "холуй".
«Так вот, товарищ комиссар, я узнал, что и как нам надо делать теперь. Вылечили немцы мои мозги.»
***
В Дарьино мы пробыли недолго, не успели даже принять ни одной партии раненых, как нам приказали переехать на новое место в местечко Нелидово Великолукской области. Переезд на автомашинах зимой нам предстояло сделать более трехсот километров. Переезд этот мы сделали быстро и благополучно, не считая двух неприятностей, имевших место в дороге.
В довольно большом селе Кувшиново мы остановились всей колонной из тринадцати машин у здания комендатуры, так как в этом месте стояло много войск. Впереди моей машины ехали наши сестры и санитарки, молодые и веселые девчата. Из здания комендатуры вышел какой-то офицер и подошел сзади машины, где ехали медсестры и санитарки. Офицер, держась за задний борт машины, весело «бил зубами» с девчатами. Наша машина находилась всего в девяти метрах от передней машины, и вдруг она медленно сошла с тормозов и подошла вплотную к заднему борту передней машины, у которой стоял и чужой офицер. Я не придал этому никакого значения, правда наша машина чуть притиснула офицера к заднему борту первой машины, но он и вида не подал, что ему больно, не крикнул, ничего не сказал, а просто пошел к зданию комендатуры. Вскоре после этого наша колонна двинулась дальше. Отъехали мы не более как на десять километров, вдруг нас догнал на мотоцикле связист особого отдела комендатуры Кувшинска и заявил, что мы искалечили офицера особого отдела, у которого оказался сломанный позвоночник. Я не мог поверить этому и счёл это простым недоразумением. Чекист требовал повернуть нашу колонну обратно в Кувшиново для разбора дела. Я наотрез отказался, чекист пригрозил. Я послал его по всем матюкам, какие мог вспомнить. Мой чекист смутился и, записав мое «имя и звание», повернул во свояси.
Второе событие - комического характера:
На одной из машин мы везли в мешках пудов двадцать белого порошка от вшей, забыл его название. Вспомнил, кажется - «перетрум». Остановились ночевать в деревне, а ночью один мужик украл с машины мешок с порошком, думал, что мы везем муку крупчатку, а его старуха на радостях, что достали муки, приступила ночью заводить блины. Блинов, конечно, не вышло. Вот мужик и принес мешок обратно утром, заявив, что нашел его на дороге. Мы не стали привязываться к человеку, видя как трудно с питанием в этой деревне.
Глава 6.1. В Нелидове. Кровь за кровь.
От небольшого городка Андриаполя мы двинулись к пункту нашей остановки Нелидово. Дорога почти все время шла лесом километров восемьдесят. По обе стороны дороги в лесу лежали чуть не штабелями снаряды, мины, гранаты, патроны и прочие боеприпасы. Это всё понакидали наши шофера, ввиду различных автомобильных аварий и поломок.
В Нелидово мы приехали ясным солнечным днем и, не доехав три километра, остановились в лесочке. А начальник с одной машиной поехал в Нелидово. Мы хорошо сделали, что остановились не доезжая места назначения. Нелидово был небольшой рабочий поселок. Немецкие самолеты весь тот день висели над этим несчастным поселком и беспощадно его бомбили. Начальник госпиталя вернулся из Нелидово и рассказал, что там находится штаб полевых госпиталей ЗУ армии, к которому мы принадлежали. Когда стало темнеть, мы тронулись в Нелидово. Местечко было новое, стройка деревянная и почти вся уцелела, хоть и немцы ежедневно бомбили поселок. Разместились мы в довольно хороших квартирах, замаскировали машины, разместив их у различных пристроек. Через Нелидово идет железная дорога Ржев – Великие Луки.
Утром я пошел на станцию, вернее, на то место, где должна быть станция. Но ее давно уже не было. Немцы разбомбили ж/д станцию в первые же налеты. Возле, в сосновом лесу, я увидел страшную картину, это была огромная поленница из немецких трупов, в ней было, как мне потом говорили, две тысячи семьсот четыре трупа. Большинство из этих трупов были проколоты штыками, с разбитыми черепами. Говорили, что наши войска, наступая здесь, захватили эшелон с ранеными немецкими солдатами и всех, до единого, прикончили. Как и всех взятых в плен в боях за это местечко «фрицев».
«Кровь за кровь, смерть за смерть», - думал я, - так и нужно делать. Фашисты грозят истребить весь наш народ и убивают сотни тысяч нашего мирного населения в оккупированных районах! А почему мы должны либеральничать? На истребительную войну, мы тоже ответим истребительной войной».
В Нелидово мы пробыли недели три. Оборудовали госпиталь, который быстро заполнился ранеными. Фронт от Нелидово был и недалеко, и очень далеко. Это было самое «горло Ржевского кувшина». Линия железной дороги Ржев – Оленино находилась в руках немцев. Пулеметные очереди хорошо были слышны в Нелидово. Можно сказать, что фронт против Нелидово был необычайный: у станции Оленино, километрах в двадцати пяти, были немцы. Это в левую сторону. А в правую, немцы были в городе Белом Смоленской области, тоже километров двадцать пять от Нелидово.
История образования здешнего фронта такова.
Около 8 января 1942 года части 39 и 29 армии прорвали фронт противника северо-западнее Ржева. Части нашей армии подошли к Ржеву, но взять сходу сильно укрепленную полосу противника под Ржевом не удалось. Не хватило танков и самолетов, и бои под Ржевом затянулись. Наша армия понесла в жестоких боях большие потери, но наступающий порыв войск не ослабевал.
Командовал 39 армией храбрый и любимый солдатами генерал-лейтенант Масленников Иван Иванович***. Командный и политический состав армии и многие рядовые бойцы называли его в разговорах между собой просто «Иван Иванович». Он был близок и понятен солдатской массе. Разделял вместе со всеми все невзгоды боевой жизни. Штаб армии неотступно следовал за наступающими частями первого эшелона. Иногда, в решительные моменты при штурме укрепления противника Иван Иванович бросал в бой ночью весь состав штаба. Часто, лежа под огнем противника с утра и до ночи в снегу, бойцы слышали вести: «Прибыл полковой комиссар из штаба. Сам поведет нас в атаку». Комиссар вел в атаку с криком: «За Родину! За Сталина!». И тогда ничто не могло устоять перед натиском славных уральцев.
(*** Примечание.
Генерал-лейтенант Масленников И.И – одна из ключевых фигур произошедшей Ржевской трагедии. Фигура неоднозначная.
Родился в семье ж/д служащего 4-го разряда 3 (16) сентября 1900 г. на станции Чалыкла, ныне Озинского района Саратовской области. Был одним из 14 детей. Перед революцией Масленников, сын путевого обходчика, успел окончить 2-х классное железнодорожное училище и уже в 15 лет стал телеграфистом на ж/д.
В 1917 г. Иван Масленников вступает в отряд Красной гвардии, который в апреле 1918 г. вливается в 1-ю Уральскую советскую дивизию. И началось бурное продвижение его по службе. Личная храбрость Масленникова была отмечена и вознаграждена по заслугам. В 1924 году вступил в ВКП(б). Учился на Новочеркасских кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА. Командование бросало его в горячие точки, где молодой командир неоднократно отличался в боях с басмачами. В 1932 г. он оканчивает старший курс Новочеркасских кавалерийских курсов и назначается командиром-комиссаром 11-го Хорезмского кавалерийского полка ОГПУ. В 1934 году он заочно оканчивает Комвуз Среднеазиатского ЦК ВКП (б), а в следующем году, тоже заочно, Академию РККА им. М.В. Фрунзе. Масленников назначается начальником отдела боевой подготовки пограничных войск НКВД Азербайджанской ССР. Здесь Масленников познакомится с закавказскими чекистами, которые очень скоро будут играть важную роль в органах госбезопасности. Наркомом внутренних дел Азербайджана был комиссар госбезопасности 3-го ранга Ю.Д. Сумбатов-Топуридзе, пользующийся доверием и покровительством Берии и Багирова. В декабре 1937 г. Масленников получает звание комбрига и новое назначение. Он становится начальником Управления пограничных и внутренних войск Белорусской ССР. Вскоре и заместителем наркома внутренних дел Белоруссии. 28 февраля 1939 года Масленников был назначен заместителем по войскам наркома внутренних дел СССР тов. Берии. Новый заместитель Берии понравился. На новой должности Масленников курировал пограничные и конвойные войска, войска по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности, Главное военно-строительное управление и Главное управление военного снабжения. В марте 39-го ему присвоили звание командира дивизии, и в этом же месяце на XVIII съезде ВКП (б) Масленникова избрали кандидатом в члены ЦК партии. В марте 1940 г. Масленников становится командующим корпусом, в апреле - награждается орденом Ленина, в июне, с введением генеральских званий, переаттестован в генерал-лейтенанта, в феврале 1941 г. получает орден Красной Звезды.
Не перечисляя весь послужной список И.И. Масленникова, отметим, что
в июне 1941 года Масленников Иван Иванович был назначен на должность командира оперативной группы Западного фронта, в июле 1941 года — на должность командующего 29-й армией, а в декабре 1941 — на должность командующего 39-й (уральской 3У) армией. На Западном направлении положение дел было весьма неудовлетворительным. Поэтому сразу же в июле 1941 года в основном за счёт мужского населения Урала и Сибири формируют 4 резервные армии (1У, 2У, 3У, 4У) под руководством генералов погранвойск. Как и многие советские военноначальники того времени, И.И. Масленников не был готов к ведению боя в новых тактических и технических условиях. Он оказался одним из тех генералов, которые готовились к прошедшей (Гражданской) войне. И навыки нового военного мышления и планирования он постигал на горьком опыте 29 и 39 (Уральских) армий под Ржевом. В ходе Ржевско-Вяземской операции 39-я армия под командованием Масленникова 8 января прорвала оборону противника и, развивая наступление на Сычёвку, обеспечила ввод в прорыв 1-го кавалерийского корпуса П.А. Белова для партизанских рейдов в тылу противника.
К июлю 1942 года 39-я армия уже занимала важный плацдарм, глубоко вклинивающийся в немецкую оборону в районе Холм-Жирковского. За этот «кавалерийский наскок» он был отмечен маршалом Василевским. Однако, из-за многочисленных промахов руководства, в том числе и 39 армии, в ходе немецкой контр операции «Зейдлиц» наша армия была окружена и почти полностью погибла. Скупые строки… Ржевское побоище… Потеря руководства над армией, бездарные и бездеятельные заместители… Ржевский разгром…
Масленников И.И. пробивался из окружения вместе со своим штабом, отказываясь принимать в состав своего отряда других «окруженцев». Масленников получил ранение и, один из всех, был вывезен из окружения самолётом.
Штаб 39 армии был почти полностью перебит и переранен в этих жестоких боях. После вывоза командарма, застрелился раненый начштаба армии генерал-майор П.П. Мирошниченко, пропал без вести начальник политотдела армии. Оставшихся «штабных» выводил из окружения генерал-лейтенант И.А. Богданов. Сам он погиб при пересечении линии фронта.
Но сотни тысяч «солдатской массы», по словам Брагинского, связиста штаба армии – «кишевшего в лесу» - дезорганизованные отсутствием надлежащего руководства и шатающиеся от голода, без боеприпасов, больные дизентерией, брошенные на произвол противника, они погибли в Ржевском котле или попали в позорный плен. За ними самолёт не прилетел. Не прилетела авиация даже поддержать отступление уральцев и сибиряков – русский костяк 39 армии. Цвет Урала и Сибири трагически сложил свои головы подо Ржевом. Только отдельным подразделениям, сохранившим дисциплину и управляемость, и удалось выйти из окружения на участках южнее и севернее города Белого в полосе 30 и 32 армий.)
Узкой полосой прорыва углубились две наши армии в расположении противника до станции Сычевка на 160 км. С налета взяли Сычевку, но подошедшие танковые части противника снова заставили отступить наши войска. Солдаты никак не могли сознаться, что они оставили Сычевку в виду превосходства сил противника и приписывали неудачу обилью водки, взятой в Сычевке. Водки действительно было много, и многие перепились, но, конечно, причина отхода наших войск была не водка. Солдаты-уральцы свято верили в ехидную народную пословицу «Нет молодца, чтобы поборол винца», и на винцо, а не на танки противника сваливали свою вину.
Подбросив свежие части по железной дороге «Вязьма - Ржев», противник занял линию прорыва наших войск у Ржева, всего шириною около 15 км. ЗУ и 29 армии оказались в окружении в глубоком тылу врага. Более месяца тщетно пытался враг уничтожить окруженные части ЗУ и 29 армии. Более двух недель части нашей армии генерала Лелюшенко**** штурмовали противника у Ржева, чтобы пробить кольцо окружения и помочь окруженным армиям, но безуспешно.
(**** Примечание.
На протяжении всего 1942 года во главе армии Дмитрий Данилович Лелюшенко участвовал в Ржевской битве. В январе - апреле 1942 года армия вела тяжелые наступательные бои в первой Ржевско-Вяземской наступательной операции. В ходе Ржевско - Сычёвской наступательной операции в июле—октябре 1942 года армия под командованием Лелюшенко с большим трудом «прогрызала» немецкую оборону, медленно продвигаясь к Ржеву. Хотя ей удалось прорвать первый рубеж обороны, но в дальнейших боях войска понесли серьёзные потери и не смогли выполнить поставленной боевой задачи. Ржев не был взят, хотя части армии вышли к его окраине и в ходе яростного штурма несколько раз врывались в город, но каждый раз были отброшены противником.)
Наши окруженные армии испытывали страшный недостаток в боеприпасах и особенно в питании. Ели конину, мерзлую картошку, сами молотили хлеб. Некуда было девать раненых, но дрались храбро и мужественно части Красной Армии. Идя на выручку окруженным, прорвали кольцо окружения у местечка Нелидово и соединились с окруженными частями 39 и 29 армии, расширили и углубили прорыв до 150 км в глубину и более 200 км по фронту. Фронт принял форму огромного пузыря. Почти кувшина в разрезе.
Наши войска заняли линию обороны, очень невыгодную для нас, но выгодную для противника.
У нас болота, леса и полное бездорожье. Единственная дорога из Андриаполя была лесная грунтовая, восемьдесят километров до горла этого «кувшина», и далее шла лесами и болотами более ста километров. Эта часть была проезжей только зимой по морозам.
Противник же имел железные дороги Смоленск – Вязьма, Вязьма-Ржев. По видимому, наше командование заняло такую позицию временно, угрожая флангу немецких войск у Ржева, Вязьмы, Великих Лук, но не предвидя немецкого наступления на Сталинград.
Такую позицию держать можно. Однако надо было её сильно укрепить. Проложить хорошие дороги, обеспечить пополнение вооружением. К сожалению, ничего этого сделано не было.
Занимая такое невыгодное положение, мы в то же время в стратегическом положении занимали выгодные позиции, наша армия со своей стороны угрожала отрезать немецкие армии, стоящие у Ржева, сковывала силы противника в важном стратегическом пункте.
Вопрос решался соотношением сил, сможем ли мы сдержать линию фронта, не дать захлопнуть ворота нашего прорыва Оленино – Белый, или противник, создав перевес сил, раздавит нас в этом кувшине?
И вот именно в дыру этого «кувшина» и был направлен наш полевой госпиталь из Нелидово. При этом Рязанов, начальник санитарного отдела армии, чистосердечно нам заявил: «Вам предстоит окружение. Мне хочется иметь и мои госпитали в окружении вместе с другими частями, иначе мне и похвалиться нечем будет, а вам награды не за что будет давать».
Мой начальник госпиталя, врач Пономарев, прыгал как молодой козлик и был очень доволен, что наш госпиталь посылают в этот чертов мешок. По-видимому, он надеялся «заработать» ордена, медали и прочее. Опасности Пономарев презирал, говоря, что он ничего не боится. Мне не нравилась такая «храбрость».
«Не ел ты еще пирога с овечкой», - думал я, - не узнал ещё на своей шкуре, что такое война.»
6.2. В чертовом мешке.
Темной ночью выехали мы из Нелидово и въехали в «проклятый кувшин». Дело было в феврале 1942 года. Погода стояла относительно теплая для зимы. Мы благополучно прибыли к месту назначения, в деревню Дунаево Смоленской области. Деревня была расположена за рекой Опшей, притоком западной Двины, на высокой горе. Машины пришлось оставить внизу горы на льду реки, замаскировав их в прибрежных кустах. А сами мы поднялись по горе в деревню Дунаево. Огляделись.
Для госпиталя место было выбрано удобное, мы заняли помещение бывшей школы, которая помещалась в старом помещичьем доме. Весь следующий день ушел на подъем машин в гору и на выгрузку имущества госпиталя. Мы, то есть: я и начальник госпиталя, остановились на квартире учителя, который по болезни желудка не был пригоден для службы в армии.
Дунаево и весь район уже раньше был оккупирован противником и освобождён в зимнее наступление. Поэтому жители знали, что такое немцы и немецкая оккупация.
В этот раз наш госпиталь был действительно инфекционный. Раненых мы не принимали. Их увозили дальше в тыл. Да и мало тогда их было, так как боёв после февральского наступления не было. Но сильно свирепствовали заразные инфекционные болезни: тиф и, особенно, дизентерия.
С наступлением весны армия наша стала сильно голодать - дорога рухнула, как только растаял снег. Командующий тылом армии генерал-майор Коньков*палец о палец не ударил, чтобы подготовить дорогу к весне. А ведь все условия для этого были: лесу - сколько угодно, народ в деревнях сидел по домам и ничего не делал, да и солдат можно бы было использовать!
Но никому до строительства дороги не было дела.
(*Примечание.
Коньков Василий Фомич -25 ноября 1941 года назначен заместителем командующего по тылу 30-й армией на Калининском и Западном фронтах, участвовал в битве за Москву и Ржевско-Вяземской наступательной операции. С февраля 1942 года — заместитель командующего по тылу 39-й армией Калининского фронта, продолжавшей участвовал в наступательных и оборонительных операциях на Ржевском направлении. С сентября 1942 года -заместитель командующего по тылу 29-й армией Западного фронта.)
Такого благодушия и беспечности я не видел даже в Первую Мировую войну. Армия голодала, начались болезни.
В нашем госпитале, рассчитанном на 250 человек, число больных достигло до 800-1100 человек. Больше всего болели дизентерией. Солдаты бродили по полям, копая гнилую прошлогоднюю картошку, попрошайничали у населения, моральный дух падал. Армия таяла, как снег весной. В дивизиях вместо 15 тысяч оставались 3-4 тысячи солдат. К нам везли тогда, когда исхудалый измученный солдат не мог уже сам ходить. Кожа да кости. Зайдёшь в палату, где "лечат" больных и ужас берёт: худые, как скелеты, испражняются кровью! Вонь, духота! Каждый день хоронят от 5 до 8 человек.
Но всё же, молодые солдаты, попав к нам в госпиталь, поправлялись быстро. Умирали по большей части - пожилые. Кормили мы больных хорошо. За зиму госпиталь сделал большие продуктовые запасы. В этом безо всякой похвальбы была моя заслуга. Я не жалел водки, чтобы "угостить" интендантов тыла. И водка делала чудеса. Кроме этого нам помогало продуктами и местное население, беспрекословно обеспечивая наш госпиталь свежим мясом. Дело доходило до того, что жители оставляли одну корову на две семьи, а вторую отдавали больным солдатам на пропитание.
Каждый день я посещал палаты, читал больным газетные новости. Беседовал с нашими пациентами. И передо мной всё более и более раскрывалась жуткая картина положения нашей армии.
Солдаты жаловались мне:
« Товарищ комиссар! Что это такое делается на фронте? Люди голодают. Части не имеют и 4/5 полагающегося количества солдат. Поэтому почти бессменно приходится быть в нарядах. Офицеры озверели, бьют солдат хуже, чем в старой армии!»
Моральный дух солдат падал прямо на глазах. После выздоровления, как правило, каждый приходил ко мне с просьбой оставить его при госпитале на какой либо работе.
Наконец в нашу армию пришло "пополнение". Только такого "пополнения" лучше бы не посылать. Это были таджики, калмыки и прочие. Не солдаты, а горе одно. «С этими мало обученными,- думал я, - не много навоюешь».
Однажды ночью я вышел на улицу, посмотрел на небо - и сердце моё невольно сжала тупая боль. По всей линии фронта противник освещал небо ракетами. Фронт от нас был всего в 8 километрах, а далее он обходил огромным кольцом всю нашу армию. Выход из "кувшина" всего в 50 км шириной совершенно не был заметен в этом огненном кольце.
«Да, мы уже в окружении», - думал я.
«Знает ли командующий армией, что стоит противнику сжать фланги фронта всего по 25 километров с той и другой стороны - и мы в кольце?»
Из рассказов больных мне было доподлинно известно, что у ст. Оленино (на левом фланге горла нашего "кувшина") и у города Белого (на правом фланге) никаких наших укреплений нет.
«Знает ли командующий, - думал я, - что его армия дезорганизована голодом, болезнями, таким бесполезным "пополнением". Что она больше не способна вынести те испытания, которые уже вынесла этой зимой. Но тогда наша армия была из уральцев и сибиряков. А теперь этих храбрых и стойких солдат уже почти нет. Они перебиты, переранены, они болеют тифом, дизентерией и другими болезнями».
Наконец я не выдержал своих мыслей и решил действовать. Я пошёл прямо-таки на безумный поступок - вот прямо теперь поехать в штаб армии и командующему армией "дать совет", как избежать грозящей нам катастрофы.
Это теперь, с высоты прожитых лет, я горько улыбаюсь своему решению, но тогда я просто не мог не сделать этого. Совесть гнала меня в штаб армии.
Не знаю, чем бы кончилась для меня эта "затея", но, к моему разочарованию, я не застал командарма в штабе, хотя штаб находился всего в 4-х километрах от передовой линии. В штаб я приехал ночью. Окна в избе, где штаб помещался, были тщательно завешаны. На столах в приёмной, в канцеляриях, горели "солдатские молнии", то есть самодельные светильники из гильз.
Всё же, моё звание батальонного комиссара равнялось званию майора, а в штабе были лейтенанты и капитаны. Кажется, я не видел там майоров.
Штабисты окружили меня. Никто не спросил моих документов и все наперебой стали говорить мне о тяжёлом состоянии наших частей. Меня поразила их откровенность и их "обречённое" настроение. Штабисты рассказали мне то самое, что говорили и больные солдаты. И, наконец, открыто заявили, что стоит немцам начать наступление - мы погибли! Нам не выдержать теми силами, которыми мы располагаем.
Я спросил:
«Знает ли об этом Командующий?»
Мне ответили: «Знает!»
«Что он думает делать?»
« Отсидеться за укреплениями.»
«Почему он не ставит вопроса перед командующим фронтом? Перед Верховным командованием? Ведь это касается не только нашей 39 армии, но и армий других: 22-ой, 29-й, 44-й, 41-й! Корпус Белова?**»
(** Примечание.
Конники генерала Белова провели полгода в тылу врага. В январе 1942 года 1й гвардейский кавалерийский корпус ушел под Вязьмой в глубокий рейд по тылам фашистов. И только в июне 1942 года измотанный, но боеспособный корпус вышел из окружения в районе Кирова.)
Мне ответили, что командующий армией лучше согласится погибнуть, чем ставить такие вопросы перед Верховным Командованием. Я попросил топографических карт местности. Мне их дали и я уехал обратно.
Катастрофа надвигалась.
Вскоре после моего «визита» в штаб армии к нам в госпиталь прибыл адъютант командарма. Здоровый, краснощёкий весельчак лейтенант.
Он заявил, что командующий армией генерал лейтенант Масленников Иван Иванович сильно заболел и просит прислать немедленно врача. Лучшим врачом терапевтом был, безусловно, начальник госпиталя Пономарёв. Он охотно согласился поехать в штаб, оказать помощь такому «высокому» пациенту. И, захватив с собой ещё врача Аликину, укатил лечить командарма. Врач Аликина была высокая, довольно красивая женщина лет 28. А адъютант остался… «Пропировал» у нас всю ночь, поволочился за смазливыми санитарками и сестричками и уехал обратно.
Через два дня вернулся начальник госпиталя Пономарёв. Один. Без Аликиной.
«Ну как здоровье командарма? – спросил я у Пономарёва.
«Так, пустяки, нервы шалят у него.»
«А Аликина почему не вернулась?»
«И не вернётся»,- ответил Пономарёв.
«Она будет штабным врачом «лечить сердце командарма».
Я злобно выругался и шарахнул рукой по столу.
Этак через недельку к нам в госпиталь явился опять тот же адъютант командующего армией и заявил, что командарм требует к себе наших санитарок Лемешеву и Пьянкову. Лемешева – девка красивая, здоровая, высокая и довольно легкого поведения. Такой же была и Пьянкова.
Я хмыкнул: "Что, командарм бардак хочет открыть при штабе?" Лейтенант расхохотался в ответ и сказал:
«Знаешь, комиссар, не наше дело, что хочет сделать начальство. Мне сказали, что при штабе организуется женский снайперский взвод.»
«Никого я вам не дам», - горячился я.
«Эх..комиссар, - возразил адъютант, - не ерепенься, пожалуйста, один комиссар уже получил выговор за отказ, получишь и ты.»
Я подумал и махнул рукой.
«Бери и вези. Может, с этим снайперским взводом вы и в самом деле удержите фронт, когда немцы начнут наступать.»
Адъютант снова напился «в стельку», проспал у нас ночь и следующим днем уехал вместе с Лемешевой и Пьянковой.
«Так вот чем заняты ум и сердце командарма, - думал я с горечью: «Бездарные белые генералы и то бы так не сделали».
Приближалась весна, надо было подумать, как мы будем принимать раненых и больных, когда разольется речка Опша, автомашины мы поместили за речкой в небольшой деревушке, там же поселили шоферов. Районный центр от Дунаево был в пятнадцати километрах. Однажды утром я встал на лыжи и прямиком двинулся в райисполком. Председатель райисполкома и секретарь райкома меня приняли тепло, они оба бывали у нас и мы не скупились на водку для них. Райисполком и райком помещались рядом в небольших крестьянских домиках. Поев и поговорив кое о чем, я приступил к делу: «Мне нужна лодка, товарищи, а у вас, я видел, есть».
«Есть и можете взять, если вам она нужна», - ответили оба.
Я поблагодарил и уехал. На другой день я послал за лодкой пару лошадей и ее привезли. Как же пригодилась потом нам эта лодка! Она была недели три единственным транспортом, связывающим нас с другим берегом реки Опша.
Весна 1942 года в этих местах была на редкость дружная и теплая, с сильными и теплыми дождями. Речка Опша стала бурной рекой, разливалась широко. Теперь всех больных нам перевозили только в лодке.
Бледные, худые как скелеты, с кровавым поносом, выгружались из машин больные солдаты. Их клали в лодку, перевозили к нам, а там уже мы на носилках переносили их в санитарное отделение. Армия таяла на моих глазах.
Катастрофа уже была у порога.
Далеко от нас, в самом горле нашего «мешка», стоял кавалерийский корпус Белова. Зимой через Дунаево часто проходил конный обоз «хозяйство Соколова», как называли этот транспорт, он и питал этот корпус.
В марте в одной из деревень проводилось армейское совещание госпиталей. На этом совещании были и медицинские работники корпуса Белова.
А в конце июня немцы сбросили листовки: «Корпус Белова разбит и уничтожен, вас ждет такая же участь, сдавайтесь. Мы наступаем и вам не устоять».
До боли обидно было читать эту листовку, враг высокомерно обрекал нас на разгром. Но что было обиднее всего, так то, что хвастовство врага не было простым запугиванием.
Враг видел нашу слабость. Что им стоит смять нашу полумертвую армию, когда он громил кадровые наши армии, окружал, брал сотни тысяч в плен!
За все время я не видел днем ни одного нашего самолета. Тогда как «Мессершмитт» все время висел над нами. Иногда появлялось пять-шесть самолетов, снижались друг за другом и беспрерывно обстреливали из пулеметов одиноких солдат, бредущих по дороге. Однажды я шел полем вместе с санитаром Павлом Темниковым, вдруг, откуда-то вынырнул проклятый «Мессершмитт», пролетел низко над нами и летчик сбросил какой-то маленький предмет, который воткнулся в снег. Павлуша кинулся туда, куда упал предмет и вскоре вернулся с сияющим радостным лицом, неся в руках пол литра водки, чуть неполную. Летчик, по-видимому, сам был пьян и хотел позабавиться над нами.
«Не пей, может быть отравлена», - вскричал я санитару. Не успел…
«Что вы, товарищ комиссар, разве можно!»
Жидкость уже булькала в горле Павла. Он её выпил одним духом.
«Ну вот, товарищ комиссар, не отравлена.»
Через восемь лет после этого, товарищ Павла, находясь в Ирбитском госпитале, где я читал больным лекцию, рассказал мне, как умирал Павел Темников.
«Пуля попала ему в грудь, Павел упал, потом вскочил на колено, взял винтовку и стрелял по наступающей немецкой пехоте. Вторая пуля попала в грудь, Павел снова упал, потом со страшной силой он начал рыть руками землю, хрипел, комья земли летели из-под рук на несколько метров. Затем он опять встал на колено и, закричав страшным голосом, свалился в вырытую им яму и умер». Вот такая история…
Сегодня у нас гость – это начальник тыла бронетанковых войск инженер Колесса. Он нам знаком, лежал в нашем госпитале еще в Дарьино. Колесса мне не нравился, почему-то он таскал с собой папку своих биографических данных, справку о месте работы. Различные справки о благонадежности инженера Колессы были даже за 1919 год. «Недаром человек носит такую уйму документов, - думал, я,- по-видимому, совесть не чиста». Впоследствии инженер Колесса добровольно сдался в плен к немцам.
Сегодня, увидев меня, Колесса так и расплылся в утончённо-подхамлимской улыбке.
«Тридцать пять новеньких танков привел в вашу армию, товарищ комиссар, – встретил меня Колесса.
«А горючее есть?» – спросил я.
«Горючего-то мало, товарищ комиссар.»
«Что же тогда делать с танками? Зачем они нам без горючего?»
«А мы, товарищ комиссар, в землю зарыли их, в дзоты их превратили.»
«А в каком месте вы их закопали?»
«У «Разбойной», товарищ комиссар».
«Вот они там будут стоять, а немцы-то на «Разбойную» и не пойдут?», - возражал я.
Так и получилось. Немцы обошли закопанные танки.
Глава 6. Наша трагедия.
Приближался июль. Стояла прекрасная летняя погода. После обильных проливных дождей трава по берегам реки Опши была уже почти по грудь человеку. Скудные посевы Дунаевского колхоза сулили хороший урожай. Солнце грело досыта наполненную дождями землю, и над полями и лугами стояла прозрачная пелена воспарения. Птицы весело щебетали в уреме речки, и жаворонок пел свою солнечную песню. На лугах мирно паслись коровы колхозников, ничто не напоминало о близости фронта, а он был в 10-12 километрах от этих «мирных мест». Редко-редко иногда прогремит орудийный выстрел, прострочит пулеметная очередь, и снова тихо на фронте.
Утро 2 июня 1942 года было необычным. С восходом солнца в воздухе появились немецкие самолеты - одиночки. Они сразу же «повисли» в воздухе, контролируя определенные участки. Один из них взял под наблюдение Дунаево, но не бомбили, это были самолеты разведчики.
В 10 часов утра артиллерийская перестрелка началась по всему фронту, фронт глухо стонал и урчал каким-то особенным урчанием, то ослабевая, то снова усиливаясь. Это работало стрелковое оружие. Вскоре из санитарного отдела прибыл нарочный с приказанием погрузить все имущество госпиталя, и двинутся к санитарному отделу вперед к горловине нашего злополучного фронта. Меня это крайне удивило и, оставив начальника госпиталя и начальника материальной части Епифанова грузить имущество на машины, я один поехал в санитарный отдел узнать, чем вызвана такая несуразная переброска имущества госпиталя ближе к линии фронта. Назад?
Санитарный отдел помещался за деревней Шиздерево, километров за двадцать пять от Дунаево. Приехав в санитарный отдел, я нашел комиссара отдела, товарища Ермакова, и спросил его, зачем им потребовалось перевозить наш госпиталь ближе к линии фронта. Ермаков был сильно расстроен и опечален.
«Знаешь, товарищ Пичугин, - заговорил Ермаков, - немцы наступают и уже заняли все наши главные позиции. Еще вчера командующий армией предложил нам перевести госпиталь в центр нашей главной обороны у «Разбойной» и там отсидеться, пока подоспеет помощь. А сегодня я получил иное распоряжение. Чтобы госпиталь двинуть назад, в тыл, к Нелидово. То есть выйти из этого «мешка» пока не поздно.»
«А немцы не перехватили нам дорогу между Белым и Оленино?» - спросил я.
«Кажется, еще нет, но будьте осторожны, надо спасти раненых.»
Я потряс руку Ермакову и быстро вышел из избы.
Ермаков догнал меня в сенях, схватил обе мои руки, затем крепко обнял и поцеловал. Я удивленно смотрел на него, поражаясь такому порыву, а он глядел на меня и слезы текли у него по щекам.
Я понял все… Горло нашего «мешка» - Оленино - Белый закупорено. Мы в огромном завязанном «мешке», потому-то немцы и не торопятся, они знают, что наша голодная армия не сможет прожить и десяти дней. Почему Ермаков посылает нас в Нелидово, если путь перехвачен немцами? Потому что он ещё не верит этому и дал нам право попытать своё счастье, авось проскочим как либо.
Я сел в кабину машины, и мы поехали обратно, встречать свой госпиталь, который теперь уже ехал нам на встречу. Отъехав три километра, я увидел, насколько хватал глаз, идущие от фронта в сторону Дунаево наши отступающие войска. Шла пехота, артиллерия, конная часть. Вереницей шли обозы, а кругом было почти что тихо. Редкая артиллерийская стрельба, жужжат самолеты, редкие пулеметные очереди, и всё.
Наша армия расползалась, как гнилая рогожа, без системы, без руководства, а немцы, покуривая трубочки и сигареты, погоняли нас, как пастух стадо. Войска шли к горловине, не понимая, что немцы в первую очередь "завязали" нам злополучный «мешок».
Госпиталь я встретил на половине пути и передал приказ Пономареву, начальнику госпиталя, двигаться обратно. Пономарев горячился, кричал, что и опасности никакой нет, просто паника.
Конечно, госпиталь повернули обратно.
Приехав в Дунаево, я созвал совещание всего нашего командного состава. Совещание проводили на улице под деревьями. Самолет противника летал беспрерывно взад и вперед над деревней. На совещании я обратился с просьбой ко всем, постараться как можно быстрее погрузить больных, имущество госпиталя и немедленно, не теряя и минуты, двинуться к Нелидово, до которого восемьдесят километров. Я прямо сказал, что они едут в опасный путь, возможно немцы уже перехватили нам там дорогу, но выхода нет, надо рисковать.
Больных мы погрузили не только на машины, но и на крестьянские подводы, которые с большим трудом, но все же удалось мобилизовать у них под угрозой расстрела. Имущество госпиталя оставалось в Дунаево.
Мы вместе с начальником госпиталя решили сначала отправить больных, а потом вернуться за оставшимся имуществом.
Я остался в Дунаево, охранять имущество. Отступающие в беспорядке отдельные части могли разграбить наш склад.
Колонны машин и обозы с больными ушли. Я остался с зав. складом и несколькими бойцами из выздоравливающей команды госпиталя. Если колонна дойдет до Нелидово завтра ночью, машины должны вернуться за оставшимся имуществом. На следующий день из Нелидово стало видно движение немецких войск в районе Шиздерево.
Выздоравливающая команда имела винтовки, патроны и много было разных гранат. Мы вырыли окопы за околицей деревни и поставили в них караульное отделение. Прошла тревожная ночь, я ни с кем не имел никакой связи, ничего не знал, что делается на фронте. Машины не вернулись, а через Дунаево шли и шли отдельные отряды, группы, одиночки. Несколько раз пытались ограбить наш склад, в котором было порядочно продовольствия и даже водка. На дверях мы повесили плакат «заминировано». Только это и сдерживало голодных солдат.
А часовой, что он мог сделать?
Настал третий день, как ушли наши машины и не вернулись.
В шесть часов вечера около нас разорвалось несколько легких мин, значит немцы где-то близко. Я пошел к складу, принес охапку соломы и подложил под угол склада. Если покажутся немцы, склад подожжем, думал я. В деревне не осталось ни одной живой души, все ушли в леса.
Вдруг я увидел, что по дороге шагает один из санитаров, отправившийся вместе с колонной машин. «Как он мог появиться здесь?» - думал я.
Санитар этот был принят в госпиталь недавно из выздоравливающих, и я не помнил его фамилии.
« Эй, дружок, куда пошел?» – крикнул я ему вдогонку.
Парень обернулся:
«А, это вы, товарищ комиссар».
И быстро подошел ко мне.
«Как ты оказался здесь, ведь ты уехал с колонной?»
«Да, товарищ комиссар, я был с колонной.»
«Где же теперь госпиталь? Почему ты здесь?»
«Госпиталь, товарищ комиссар, километров двенадцать отсюда, в лесочке, по дороге на Нелидово. Мы уже отъехали километров сорок, а потом вернулись. Нам солдаты сказали, что немцы перехватили дорогу. Вперёд поехал с тяжелобольными тифозными шофер Шелгочев, так и не вернулся, что с ним, не знаю.»
«Ну а ты куда пошел?»
«Я, товарищ комиссар, пошел искать свою прежнюю часть, у меня там товарищ.»
«Не ходи, парень, немцы совсем близко отсюда, попадешь к ним в плен. Лучше пойдем со мной обратно. Приведи меня, где расположен госпиталь. Паренек стоял и думал, вдруг мимо нас свистнула противно мина, другая, и разорвались метров в ста от нас за хатой, спиной к которой мы стояли.»
«Да, товарищ комиссар, немцы где-то тут рядом».
« Ну, так пошли обратно».
«Пошли, товарищ комиссар.»
Я подозвал командира моего охранного взвода и сказал ему, что я ухожу. «Через три - четыре часа придут машины, вы грузите все имущество и приезжайте вместе с ним и сами».
Взяв винтовку, патроны и мешок пищевой, я вместе с санитаром пошел разыскивать госпиталь. «Почему же, - думал я, - начальник госпиталя не известил меня и два дня стоит в лесу в двенадцати километрах от меня. Знает, что я один, что здесь имущество. Да это измена и предательство! А ведь вместе с начальником госпиталя и Епифанов, начальник материальной части, член партии с 1919 года. Что они делают?»
Епифанов и начальник госпиталя оба были из города Свердловска и как-то всегда тянулись друг к другу. Епифанов был пьяница, трус, бабник. Я два раза ставил о нём вопрос на партийном собрании. Ему дали строгий выговор. Он меня ненавидел.
Начальник госпиталя Пономарев был беспартийный, любил выпить и волочился за девчатами. Его я тоже пробирал жестоко и беспощадно. Всем им не хотелось ехать из Дунаево с больными, они боялись риска, надеялись, что немецкое наступление остановят. Они не понимали глубины нашей трагедии. При отправке Епифанов напился «в стельку» и я едва не пристрелил его сгоряча, да вмешался Пономарев. Пономарева я тоже выругал и предложил, как комиссар, выполнить мое распоряжение «для этого и комиссары, чтобы ломать вам хребет», заявил я на протест Пономарева. Словом, они уехали, озлобившись на меня.
На что же решились теперь? Они ждали спокойно конца развязки, пили госпитальный спирт и наслаждались лесным воздухом. Сообщить мне о том, что они вернулись обратно, они боялись, а вдруг комиссар пошлет снова пробивать дорогу, а вдруг комиссар заставит обороняться, если покажутся немцы? Лучше и спокойнее им было без комиссара.
Это было прямое предательство, и это я им тогда не мог простить. (И никогда не смогу. Вот уже двенадцать лет прошло, на дворе 1958 год, но я ни разу не побывал у Пономарева, хотя в Свердловске я бывал часто.)
Все это я продумал дорогой, когда шел со своим спутником в расположение госпиталя, страшная ярость кипела в моей груди против предателей, но все же я был один. За месяц до этого наших санитаров взяли в строевые части, взяли и моего старшину Усольцева, на которого я мог положиться, и теперь остались из мужчин одни шофера, а это были ненадежный народ, трусы и шкурники. Я все же решил действовать решительно.
Через два часа я был в расположении госпиталя. Горели костры, кипели чайники, многие были навеселе. В стороне был шалашик, в котором лежали Епифанов, Пономарев, известный мне инженер Колесса и какой-то старший батальонный комиссар из штаба армии. Все были подвыпивши, я сел против них на пень и тихо позвал к себе начальника госпиталя.
«Николай Александрович! – обратился я к начальнику госпиталя, - почему вы вернулись с дороги?»
« Нам сказали, что дорогу заняли немцы.»
«А сами вы видели немцев?»
« Нет, не видели.»
«Что же вы здесь решились делать?»
«Ждать, может обстановка проясниться.»
« Почему вы мне не сообщили обо всем этом? Почему? Говорите!»
Пономарев бледный с трясущимися руками стоял и молчал. Я вынул пистолет и положил себе на колени.
«Позовите Епифанова!»
Пономарев вздрогнул.
«Что вы хотите с ним сделать, Михаил Павлович?»
«Пристрелить мерзавца!»
Но Епифанов уже скрылся, и нигде его не смогли найти.
Подозвав шоферов, я приказал им немедленно разгрузить машины и гнать в Дунаево за оставшимся там имуществом. «Кто не выполнит приказание, тот будет немедленно расстрелян».
Еще не рассвело, а машины уже вернулись из Дунаево, забрав все имущество госпиталя. Все, кто мог работать, по моему приказанию вооружились лопатами, топорами и рыли огромную яму, я стоял и торопил работающих: «Живей, ребята! Живей!». Когда огромный котлован был готов, в него развернули огромную, хорошо просмоленную трофейную палатку, в неё я приказал сложить все имущество госпиталя. Все вошло в эту палатку, закопали землей и замаскировали хворостом. Затем я приказал вынуть из машин главные части с моторов и также спрятать в лесу.
Едва мы успели проделать все это, как мимо нас с грохотом промчалась наша конная батарея и развернула пушки недалеко от нас на поляне. Через полчаса батарея открыла огонь прямо через наши головы и, выпустив снарядов по десять на орудие, снялась с позиции и куда-то скрылась.
В скором времени со стороны Дунаево и с правой стороны загремела немецкая артиллерия, стрельба шла по нашему лесу, зловещими раскатами катился по лесу гул от лопающих снарядов, как скошенные, падали деревья то там, то здесь. Вдруг артиллерия прекратила огонь, и в лес вступила немецкая пехота. Немцы шли на нас, беспрерывно стреляя из автоматов и винтовок. Пули защелкали по деревьям, клочки моха и земли то там, то здесь взлетали в воздух.
Длинной цепочкой мы уходили дальше и дальше от наступающего противника.
Наша трагедия началась.
В первое время я еще не знал, что нам делать в такой обстановке. Самое первое, что пришло на ум – это добраться до большого леса: немцы в лес не пойдут, а там мы обстоятельно решим, что делать. Какой «силой» мы располагали? Я, начальник госпиталя, начальник фин. части Белов, Епифанов, писарь и тринадцать человек шоферов, остальные - женщины : врачи, сестры, санитарки и кроме этого с нами пошли человек восемьдесят выздоравливающих. Большинство - очень слабые после тифа или дизентерии. До леса было километров 8 и глубокой ночью мы вошли в лес. Прошли лесом вглубь километра 2-3 и остановились.
Наступил первый день наших скитаний.
Лес еще ранее нас оказался «густонаселенным» окруженцами, подобными нам. В глубоком овраге недалеко от нас горели костры, и дым бледным покрывалом раскинулся над оврагом. Слышался дикий визг, азиатская речь. Это были солдаты из республик Средней Азии: казахи, киргизы и прочее "пополнение". Пировали, объедались кониной пойманных в лесу разбежавшихся обозных лошадей.
К нашему отряду примкнули около 12 человек солдат конной разведки, потерявших свою часть. Все это были кадровые солдаты, молодые, здоровые ребята, хорошо вооруженные, каждый имел лошадь до отказа навьюченную различными продуктами. Командир конной разведки, старший лейтенант, здоровый краснощекий парень из Свердловска, хорошо разбирался с картой и компасом. Все они решили не расставаться с нами, вместе выходить из окружения. Я прекрасно видел, что и лейтенанта и его подчиненных «заворожили» наши молоденькие санитарки, медсестры и врачи. Многие из них были действительно красивые девчата. В первую же ночь я убедился, что все мои беседы и лекции «о моральном поведении» мало пригодились.
Но сейчас было не до этого. Вопрос стоял: что делать? Днем мы провели совещание командного состава. Командиры: старший лейтенант, начальник госпиталя и несколько лейтенантов из выздоровевших, все единодушно предлагали лесами добраться до замкнутой линии фронта и перейти её. До Нелидова от нашего месторасположения было около 90 км, расстояние не такое уж большое.
Я предложил совершенно иное, а именно найти местных партизан и остаться с ними. В душе я имел намерение найти местных партизан, организовать свой партизанский отряд и действовать в тылу врага до той поры, когда Красная Армия пойдет снова в наступление, и мы встретим ее.
Против моего предложения не возразил ни начальник госпиталя, ни остальные. Председатель райисполкома, где мы находились, и секретарь райкома были нам знакомы, они уже один раз партизанили, когда эта местность была занята немцами. Они не раз говорили, что если немцы еще раз займут район, то они снова останутся партизанить.
Следующий день я и начальник госпиталя целый день ходили по лесу, искали партизан, но никого не нашли. Между тем лес все более пополнялся стекающимися со всех сторон несчастными окруженцами. Шел слух, что какой-то генерал организует в лесу воинские части для прорыва. Мол, люди ходили, искали этого генерала, но так и не нашли.
В лесу я встретил в полном составе конную батарею во главе с командиром. Но пушки они бросили и шли пешими. Я подошел к командиру батареи, показал свои документы и даже партбилет, просил его принять нас в свою команду.
«Ведь вам врачи, сестры, санитарки пригодятся, когда будете выходить из окружения и столкнетесь с противником», - говорил я, убеждая его взять нас.
Но мне жестко и холодно отказали.
«Никогда,- думал я,- старый офицер царской армии, будучи в таком положении, не опустился бы до такой низости, чтобы отказаться от патриотов, желающих вместе с ним разделить грозную участь. Кто и как воспитал вас – кадровых офицеров?» - с горечью думал я.
По-видимому, этот майор вел батарею сдаваться в плен к врагу и я ему мешал в этом. К сожалению, впоследствии я узнал, что так оно и случилось.
Вернувшись в расположение своего госпиталя, я узнал новую неприятную новость: Епифанов и Белов скрылись и увели с собой всех шоферов. Шоферы, как оказалось, познакомились с одним солдатом из этого района, который бежал «надежно укрыться в этих лесах» возле его деревни. «Комиссар наш, - рассуждали шоферы, - не найдя партизан решит во что бы то ни стало перейти фронт, а это без жертв не обойдется». Им не хотелось больше подвергаться какой-либо опасности, лучше где-либо пересидеть это время.
Вот уже две недели как мы в окружении. Наш выход из окружения оказался гораздо сложнее, чем мы его предполагали. Хотя у нас была хорошая разведка, в лице примкнувшей к нам группы вместе с лейтенантом, но работала она из рук вон плохо. Не могли люди понять новую для них обстановку. Один раз, когда мы подошли к важному рубежу нашего перехода, я предложил командиру разведки произвести разведку днем, узнать, можно ли перейти лежащий поперек нашего пути широкий тракт. Разведка ходила в указанном направлении и, вернувшись, доложила, что немцев нет. Темной ночью мы подошли к широкому тракту и были встречены шквалом пулеметного, ружейного и минометного огня. В полном беспорядке все кинулись назад, утром мы не досчитались почти половины людей, конечно, они не могли быть все убиты, просто ночью растерялись по лесу. Пришлось нам дать обход этого места и очень далекий, там, где мы предполагали, противник меньше стережет пути к фронту, но и тут нам не повезло. Чем больше мы плутали, тем больше противник имел возможность закупорить проходы к фронту.
Однажды ночью мы набрели на минное поле, раньше в этом месте был фронт, и немцы заминировали многие места. Я шел впереди с винтовкой в руках среди порубленного леса. Сзади меня шли начальник госпиталя Пономарев, врачи женщины Хлыбова и Гросман. Тропинка огибала большой куст, а другая шла прямо, сокращая расстояние, я почему-то пошел в обход куста, а Пономарев и врачи прямой тропой. Раздался взрыв, не очень сильный, похожий на выстрел из винтовки. Я быстро встал на колено и направил дуло винтовки в сторону раздавшегося взрыва, но все было тихо, только за кустом раздались стоны и чье-то предсмертное хрипение. Бросился на место взрыва. Раненые врачи Пономарев и Гросман стонали. Начальнику госпиталя взрывом мины сильно ушибло скулы, и он еле мог говорить. Врача Гросман сильно ранило в руку, и она сильно мучалась, Хлыбовой разбило голову, и она умерла через две-три минуты. Раненого начальника госпиталя посадили на лошадь, подозвав меня, он еле промолвил:
«Дай руку, комиссар.»
Я подал руку. Пономарев прошептал:
«Я, кажется, честно выполнил свой долг, а теперь можно и умереть.»
«Бросьте, - резко возразил я, - Вас чуть царапнуло, а Вы умирать собрались, а еще врач! Пока мы не выйдем из окружения, никакого долга мы не выполнили».
Рана Пономарева действительно была пустяковая. Утром ему уже можно было есть. Бедную Хлыбову так и оставили, не похоронив. Времени не было. Надо было спешить перейти широкий тракт до рассвета, тот самый тракт, который мы пробовали перейти более недели назад, но были обстрелы и пошли искать менее опасное место.
На следующий день мы вышли на опушку леса. Перед нами было довольно большое круглое поле, окруженное лесом. В середине поля виднелись постройки какого-то поля или подсобного хозяйства. Чтобы не быть замеченными, мы углубились в лес, пошли дальше возле опушки леса.
Вдруг раздался голос, довольно громкий, от самой опушки леса: «Эй, иди сюда, эй, иди сюда!». И так повторялось много раз. В интонации голоса было что-то не наше, не славянское, не русское.
«Это немцы», -шепнул мне лейтенант, начальник разведки. Я подозвал к себе одного разведчика, старшину, по национальности узбека. «Слушай, старшина, подойди тихонько к опушке и узнай, кто кричит, если немцы, дай по ним из автомата и беги сюда». Старшина ушел. Начальник госпиталя Пономарев, раненый вчера, поехал на лошади сзади метрах в двухстах с тремя бойцами разведки, хорошо вооруженными. Не прошло и двадцати минут, как старшина узбек, бледный, трясущийся бежал к нам.
«Беда, товарищ комиссар, немцы захватили в плен начальника госпиталя и его конвой.
«А ты что делал в это время, почему не стрелял!» - кричал я.
«Струсил, товарищ комиссар, я. Немцев было много».
«Эх, ты вояка, а еще автомат прицепил. Кто вас воспитывал, таких трусов, - горячился я, – но, начальника госпиталя ты видел, как брали в плен? Почему он не стрелял, ведь с ним был его пистолет!»
«Он им не сопротивлялся и отдал им пистолет.»
Я сильно выругался и приказал идти дальше вперед.
Длинной цепочкой мы двигались лесом и вскоре вышли на обширное болото, по карте, взятой мной ранее при «визите» в штаб армии. Оно именовалось «Плутово» болото. Вскоре позади нас, довольно близко, загремели автоматы и винтовки.
По-видимому, Пономарев рассказал о нас немцам, и они решили нас преследовать. Но немцы тоже, по-видимому, не располагали большими силами и скоро прекратили преследование.
«Настала священная брань на врагов
и в битву помчала Урала сынов»
И вновь встают перед моим внутренним взором картины тех боёв, победы и просчёты, разговоры и поступки. Все, кого я видел и знал - от высоких командиров до простых солдат и медработников.
И вновь задаюсь я вопросом:
- Почему? И горестно поникаю седой головой. Ржевский котёл... Что послужило причиной разгрома? И вновь перебираю всё, что видел и знал, в чём принимал непосредственное участие. Наша трагедия началась 2 июля 1942 года. То, что не смогли сломить танки и пушки, сломили голод и болезни, недостатки организации военной страды и отсутствие дисциплины.
Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять, это неверно. Судить можно и нужно, критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и самих победителей. «Меньше будет зазнайства, больше будет скромности» (Сталин). Есть виновные и в катастрофе, постигшей нашу армию.
Во-первых, почему командующий тылом армии, генерал-майор Коньков, не принял мер, чтобы построить дорогу в зимний период, чтобы не было голода в армии, чтобы достало боеприпасов. Были ведь время, силы и материалы.
Во вторых, есть и виновные в том, что упорно не видели приближающейся линии фронта, за все это дорого пришлось поплатиться, тысячи погибших и тысячи попали в позорный плен к врагу.
В третьих, кто ответит за полную дезорганизацию и моральное разложение наших бойцов, уже не способных полноценно сражаться, за отсутствие плана вывода войск из окружения, за отсутствие достойного командного состава, чтобы этот вывод осуществить, организуя солдатские массы. Дух коллективизма или даже армейской дисциплины как бы исчез, пропал, уступив место слепой панике и отчаянию. Даже сам командарм уходил из окружения только со своим штабом, никого не беря с собой, никому не дозволяя присоединяться к их отряду. Отдельные отряды и сборные команды «окруженцев», по сути, были брошены командованием на произвол судьбы. Оттого и такие потери.
Но я продолжаю перебирать свои горькие воспоминания военных лет…
«Я убит подо Ржевом»... стихи русского поэта Александра Твардовского, написанные в 1945 году.
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дна, ни покрышки.
***
Летом горького года
Я убит. Для меня -
Ни известий, ни сводок
После этого дня.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю -
Наш ли Ржев наконец?
***
Мы - что кочка, что камень,
Даже глуше, темней.
Наша вечная память -
Кто завидует ей?
***
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Я убит подо Ржевом,
Тот - еще под Москвой...
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?!
Часть 2. Плен, побег и поиски партизан.
Глава 1. Пытаемся пробраться к своим
Итак, я продолжаю свой печальный рассказ о наших попытках вырваться из окружения.
«Плутово болото», так было видно по карте. «Плутово болото» очень большое, километра четыре в поперечнике и более восьми километров в длину. Через болото прорыты канавы для осушения, рос мелкий, редкий сосняк. Были отдельные возвышенности, островки, поросшие высоким хвойным лесом. Решили сделать привал и немного отдохнуть. Развели огонь, вскипятили воды, была еще крупа и макароны. Сварили кашу, поели, и после чего поспали часа три.
Проснувшись вскоре, мы увидели, что к нам шла довольно большая группа бойцов - красноармейцев. Многие с оружием и с двумя ручными пулеметами. Это была сборная команда, командира не было, люди с разных частей брели, куда глаза глядят, многие шатались от голода и усталости. Сошлись они по дороге в большую группу случайно, по пословице «на людях и смерть красна», не имели ни карты, ни понятия куда идти, чтобы выбраться из окружения. Ребята стали просить меня, чтобы я принял их в свою команду. После некоторых переговоров, я согласился принять их с условием, что все они беспрекословно будут выполнять мои приказания. И выполнять все приказания командиров взвода и отделений, поставленных мной на командование над ними.
Я решил создать из всего нашего отряда, теперь уже более ста человек, взвод и отделения. Все согласились, я дал распоряжение им также отдохнуть и сварить себе обед, у кого что есть. Когда все поели, я подозвал к себе обоих пулеметчиков и сказал, чтобы поставили пулеметы несколько подальше, один вперед, а другой позади, чтобы на нас не напали враги. Пять человек поставил наблюдать кругом нашего лагеря, а остальным велел спать.
Мои люди, санитарки и сестры и больные госпиталя, уже проснулись и окружили меня, они радовались нашему пополнению, да еще и вооруженному, но мне было невесело, какое-то предчувствие нашло на меня.
Я понимал, что эти люди, случайно сошедшиеся в лесу, не связанны узами боевого товарищества, что они - непрочная опора. Надо время и много труда, чтобы сковать из них крепкий боевой коллектив, а сейчас они могут разбежаться «кто куда» при первом же выстреле со стороны противника.
Как они и делали уже много раз за время их скитания в окружении.
О чем они сами рассказывали мне.
И как оно в дальнейшем и получилось.
Прислонившись к дереву, я думал о том, что надо делать дальше. Легкий свист недалеко от лагеря привлек мое внимание, я прислушался, снова легкий свист, и где-то дальше в лесу ответный свист. Кто-то балуется, решил я и успокоился. Через некоторое время свист снова повторился и в ответ свист....
«Пойди и немедленно приведи ко мне свистуна», - обратился я к одному бойцу. Тот встал и пошел в ту сторону, где раздался свист.
«Хэндихох!» - рявкнули совсем близко из гущи леса, оттуда, куда пошел мой посыльный, и треск автоматов резанул лесную тишь. Пули с визгом защелкали, ударялись в деревья. Вот мой сброд кинулся кто куда в противоположную от выстрелов сторону.
Пример паники заразителен, за всеми остальными драпанули и мои бедные сестрички, санитарки, больные.
«Хэндихох!» - орали немцы, наступая и поливая автоматным огнем чащу леса.
«Ложись, сволочи! Огонь!» - бешено орал я своему удиравшему войску.
« Где пулеметчики! Огонь!»
Но их и след простыл...
Надо задержать врага, во что бы то ни стало!
И, упав за дерево, я бешено нажимал на спуск СВТ. Грохот винтовки сильнее в несколько раз автоматной стрельбы, а особенно в лесу. Немцев было немного, они тоже боялись, поэтому быстро залегли. Я выпускал обойму за обоймой, мое разбежавшееся войско, боясь в лесу друг друга, удирали друг от друга: каждый думал, что за ними гонятся немцы. Открылась беспорядочная стрельба, загрохотал весь лес позади меня, и это все же спасло меня.
Прекратив преследование, немцы повернули назад, стреляя время от времени. Встав, я увидел возле себя безоружных из состава следовавших со мной больных.
«А вы что же не удрали? Чего ждете?» - с бешенством заорал я на моих преданных бойцов.
«Куда мы от вас, товарищ комиссар. Уж помирать так вместе".
«Не помирать, а стрелять надо!»
«Чем же стрелять, товарищ комиссар? Ведь мы безоружные».
«Да разве мало винтовок этот святой сброд оставил!»
Недалеко, позади меня валялось несколько винтовок.
«А ведь верно! Как же мы не видели!» - горестно вздохнули мои герои, и пошли за винтовками. Сосчитал свои патроны – было 620, осталось 44. Патронов мои беглецы не бросили, некогда, по-видимому, было им расстегивать пояса.
«Хоть бы одну какую сволочь убили немцы, - думал я, - все же были бы тогда патроны!»
« Что делать?»
«Пойдем, мои храбрые воины, искать теперь своих по лесу, собирать всех в кучку, двигаться дальше».
И мы пошли на поиски без вести драпавших.
Дело шло к вечеру, а мы все еще бродили по лесу в поисках своих разбежавшихся людей. Теперь нас осталось трое. Но эти двое бойцов, оставшиеся со мной, были для меня дороже всех остальных. Одному было лет 38, другому – 50 лет. Оба были в зимнем наступлении и традиции боевых уральских дивизий в них сохранились. Все же они - безоружные - не поддавались общей панике. Они остались со мной в опасную минуту, готовые разделить мою участь. «Значит чувства товарищества в них сильнее чувства смерти», - думал я. В поисках по лесу мы все же нашли брошенные кем-то 80 штук патронов и теперь все трое имели по 40 патронов, а у меня даже 44.
К ночи мы выбрали хороший остров на болоте, покрытый густым лесом. Развели огонёк, поели и расположились ночевать, чтобы завтра утром возобновить поиски.
Следующий день мы уделили поискам своих. Из всех разбежавшихся удалось встретить только пять человек и шестого примкнувшего к нам старшего лейтенанта Павличенко. Знакомого мне тем, что он когда-то лечился в нашем госпитале. Итак, нас стало девять человек. Многие почти ничего не ели уже пять дней, питались грибами и кислицей. Это кислая, невысокая трава с тремя листиками, растет в хвойных лесах. Сделали привал. Павличенко варит собранные в пути грибы и кислицу, один жует зерна ржи, еще не спелой. Каждый занят тяжелой думой.
«Не лучше ли нам остаться здесь и перейти на партизанскую борьбу, - говорит Павличенко, - я весь прошлый год, когда попал в окружение, партизанил, а потом соединились с Красной Армией».
«В таком случае, - говорю я, - надо отойти дальше в тыл врага и там начать формирование отряда, а здесь все кипит немцами, все деревни заняты ими».
«Нет, не хочется уходить дальше! Попытаемся еще раз пробиться через фронт к своим. До Нелидово ведь не больше 80 км, а там свои».
«Да, надо еще раз попытаться, - говорю я, - сегодня же ночью перейдем шлях и пойдем лесами до Нелидово».
Глухая и темная ночь в лесу. Идем почти ощупью друг за другом. Время от времени смотрю на светящуюся стрелку компаса. Кажется, идем правильно. Справа речка, она идет мимо деревни Плутово. Мы должны перейти шоссе в 500 метрах от деревни. Перейдя шоссе, лес кончится, будет поле и мы должны пройти километра два полем с небольшими перелесками, а дальше сплошной лес до фронта. Так по карте…
К полночи вышли на довольно большую поляну вырубленного леса с одиноко торчащими соснами. Шагаем осторожно по кем-то проложенной тропинке, но все же, нет-нет, да и хрустнет где-то сучек под чьей-либо неосторожной ногой. По обеим сторонам тропинки много оставленных порубщиками вершин и сучьев. Идем «гуськом», я впереди. Шагнув еще несколько шагов, остановился, под ногами чуть видна бровка дорожной канавы или «кювета».
«Шоссе», - тихо шепнул я, обернувшись к товарищам.
Вдруг грянул выстрел так близко, что пламя выстрела коснулось лица.
«Назад! В цепь ложись», - громко подал команду. Все быстро залегли.
Взвилась ракета, другая, ярко освещая поляну. Сильный пулеметный огонь, огонь автоматов и винтовок обрушился на нас. Стреляли спереди из-за дороги, с левой стороны и сзади. Вправо за речкой чистое поле и видны немецкие окопы, оттуда и стреляли. Враг рассчитывал, что мы бросимся именно туда. А на чистом поле нас легко расстреляет засевшая там группа противника.
Мы попали в ловушку. Выход один – прорваться вперед через шоссе, и пользуясь темнотой ночи, идти. Для этого надо подавить огонь противника впереди нас. Мысль работает в такие минуты лихорадочно быстро.
«Огонь!» - кричу товарищам и разряжаю обойму по невидимому врагу.
Редко стучат наши выстрелы, мало нас. Мало и патронов. Мои два товарища залегли вправо от меня, всего в 3-4 метрах. Группа во главе с Павличенко кинулась прочь от засады, через речку на чистое поле. Выскочила на бугор и в упор была расстреляна засевшими там немцами. Стоны умирающих долетали до нас.
«Глупо сделал Павличенко, -думал я,- а еще кадровый офицер».
Глухо ухнула мина, другая, гром разрывов потрясал лесную тишь, наполняя ревущим гулом весь лес. Земля фонтаном поднималась кверху и падала, засыпая нас. Больше часа длилась перестрелка, и как ни редко мы стреляли, но патроны оказались уже на исходе. Немцы бьют беспрерывно, но бояться подползать ближе, да и на что им это. Они не знают наши силы и ждут рассвета, когда все будет кончено с нами.
«Я ранен», - тихо шепнул мой товарищ рядом со мной.
Пополз к нему, разрывная пуля выдернула у него весь мускул правой руки. Перевязал, но кровь идет не переставая. Пользуясь тем, что мы прекратили огонь, немцы подползли близко к шоссе и стреляли прямо в упор. Спасала нас пока только темнота.
Стреляю снова по близко подобравшимсянемцам. Те уползают обратно в окоп. Другой мой товарищ прекратил огонь и хрипит… храпит?
«Неужели спит? Можно ли спать в такое время?»
Подбегая, дергаю его за ногу, может за руку, она холодная, он умирал.
« И никто не будет знать, где ты погиб, да и мой конец близок», - думал я.
Резкий удар в левую ногу прервал мои мысли, по телу прошла неприятная дрожь. Я ранен в ногу, посмотреть нет возможности. Сапог наполнялся клейкой густой жидкостью. Пошевелил ногой, слушается - значит кость не перебита. Можно еще встать и пойти. Куда? Прямо под пули врага.
Огонь врага усилился, нет возможности поднять голову. Свинцовый дождь косит траву и сучья над головой. Снова стреляю, надо дать понять врагу, что мы еще может сопротивляться. Выхода нет, скоро все будет кончено, мысль работает сильно, напряженно.
Что делать с партбилетом? Если мой попадет в руки врага, там моя фотография, по уплате членских видно, что я не рядовой боец. Я знаю коварство и хитрость врага. Мою фотографию могут поместить в листовку: «Комиссар такой-то попался в плен и призывает сдаваться» И прочую клевету! Враг не раз вытворял подобное.
Кто будет знать о моей гибели? Никто. Меня заклеймят изменником Родины, моим детям вечный позор на всю жизнь, меня проклянут и они, и Родина.
«Нет! - кричу я себе, - «к черту всё и всякие инструкции! Я не допущу этого, уйду из жизни как без вести пропавший, но не опозоренный!» Я глубоко сунул руку с партбилетом в лесную рыхлую почву, все глубже и глубже. Все! Теперь надо умирать…
Наставил винтовку концом ствола под подбородок, правой рукой потянулся к спуску.
Почему-то глаза повернули в сторону… на лежащую передо мной вершину срубленного дерева. А из-за сучьев вершины на меня глядит мой сынишка Вовка, маленького роста, плотный, круглое загорелое личико, смеющиеся глаза, и слышу его шепот: «Папка! Что делаешь, такая мать?». Ругательство, которое я никогда не слышал от него.
Рука опустилась, коснувшись спуска затвора. Какой-то стыд охватил все мое существо, стыд за позорное бегство из жизни.
И не помня себя, я встал на ноги.
Свист пуль, грохот рвущихся мин, ослепительные вспышки выстрелов, как это ни удивительно, не напугало меня, а очаровали своей страшной музыкой.
«Вперед!» - беззвучно кричу я себе.
Или прорвусь, или погибну. Нога.., она не имеет права не слушаться. Поднял винтовку, выстрелил два раза и кинулся вперед через шоссе.
Смерть или свобода! Страшный блеск и пламя, казалось выжгли мои глаза. Сильным молотом ударили по голове. Горячая пыль плотно забила рот. Огненный вихрь закружил меня, я стремительно полетел куда-то в бездонную пропасть.
Мина, разорвавшись рядом, оглушила меня.
Я видел перед собой огромную, черную, бездонную яму. От нее меня отделяет 3-4 метра. Кто-то сильно толкает и катит меня к этой яме… Я ужасно не хочу туда падать. Кричу, но вместо крика слабый стон. Напрягая все силы, цепляюсь руками за траву, за землю, делая отчаянные усилия откинуться назад от страшной пропасти...
… Я раскрыл глаза. Солнце светило в лицо, передо мной стояла группа немцев. Поставили винтовки к ноге и смотрят на меня ничего не говорящими оловянными глазами. Офицер стоит сбоку, направив на меня автомат, рука его слегка дрожит. Четыре красноармейца стоят с лопатами и в гимнастерках без ремней. Грязные, немытые. Один нагнувшись, очистил мое лицо и рот от набившейся земли.
«Что это такое, -думал я,- где я и что со мной?»
И вдруг - все вспомнилось! И меня оглушило страшное, смертельное отчаяние.
Я не умер, я в плену.
Глава 2. Я попал в плен.
« Что это такое», - думал я, - где я и что со мной?»
И вдруг все вспомнилось, и меня охватил смертельный страх.
Я не умер, я в плену!
«Лус, лук вверх!» - негромко сказал офицер. Я вздрогнул, попытался встать, но едва поднял голову. Подошли красноармейцы и поставили меня на ноги. Офицер показал рукой на кусты, и один красноармеец подошел вскоре с моей пилоткой.
Мы встретились глазами с немецким офицером, я не заметил в них злобы или зверства, он глядел на меня, не моргая, с чуть заметным любопытством.
«Лус! Зачем стреляй?» - ломая русский язык, сказал офицер.
« Я солдат и хотел умереть как солдат!» - ответил я, глядя на него.
« Ты старий зольдат», - тыча пальцем, говорил офицер.
« Старый солдат», - промолвил я.
« С Кайзер воевал?»
«Я воевал против немцев в 1914-1917годах.»
Так мы стояли, два врага, глядя друг на друга. Оба седые, как лунь.
«Ми старий зольдат. За Кайзер воевал», - ткнул он себя пальцем в грудь и махнул рукой пленным красноармейцам, чтобы увели меня.
Пленные вели пленного, немцы шагали сзади. Присохшая к ране штанина вызвала мучительную боль, контуженная голова болела нестерпимо, я шел как во сне. Скоро пришли на какую-то заимку с большими сараями и хлевами, битком набитыми пленными красноармейцами. Нас завели в один сарай и оставили.
Первое, что необходимо, это осмотреть и перевязать рану. Снял сапог, рана широкая, пуля, пройдя, по-видимому, сквозь дерево, ударила в ногу и застряла в ноге ниже колена. У меня имелся бинт, и я перевязал себе ногу. Подошел полицейский из русских, пленный солдат. Изменник только что вступил в свою новую роль предателя, и не имел еще палки и хлыста. Стыдился своего «ремесла» и немного краснел. Сказал, чтобы я пил чай и завтракал, «а потом пойдешь на допрос, так офицер приказал».
«А ты что, вместо чая русскую кровь хотел пить?» - злобно ответил я. «Думаешь, нас побили, так все пропало теперь?
Хватит сил в России, разобьют немцев и до тебя доберутся, сволочь несчастная. Наверное, и в семилетке ещё учился!»
Полицейский испуганно отмахнулся. Покраснев, и ничего не сказав, отошел. Меня окружили пленные.
«Ты, старик, потише», - проговорил молоденький белобрысый паренек, - за эту брань, если он пожалуется офицеру, могут расстрелять и тебя и нас, у немцев рука не дрогнет».
«Да, расстреляют и вас, если вы будете толпиться возле меня. Разойдитесь пока, лучше будет для вас.»
Пленные отошли. На кухне мне дали кружку горячей воды и кусок хлеба. Все же поел и несколько оживился.
«Строиться!» - зычно раздалась команда. Из сараев, хлевов, шли пленные солдаты и становились в строй.
«Авось избавлюсь от допроса», - подумал я и встал в строй вместе с другими. Нога… Не могу идти, отстану… А и пусть пристрелят, мне все равно.
«Шагом марш!», и колонна двинулась в путь. Солнце начинало горячо припекать. Шагали молча, опустив глаза в землю.
« Я вас знаю!» - шепчет рядом солдат, сильный загорелый татарин.
«Ну, хорошо, - прошептал я, - доложи об этом немцам и тебя наградят, а может еще и в полицию возьмут, и проживешь припеваючи!»
Солдат покраснел и обидчиво прошептал:
«Бросьте, товарищ комиссар. Как вам не стыдно обижать меня, никогда я не буду предателем, пусть на куски режут. Вам трудно шагать? Опирайтесь на мое плечо.»
«Прости, - тихо промолвил я, - знаешь, нервы не в порядке.»
«Ничего, - примирительно прошептал мой спутник, - так я советским человеком и останусь навсегда.»
В следующей деревне, километрах в шести, нас ожидала огромная многочисленная толпа пленных. Шириной в три метра ползет наша колонна по пескам родной земли, ни звука, ни крика, гробовая тишина. По сторонам, метрах в 25-и, редкой цепью шагает немецкий конвой.
...В романе «Радуга» Ванда Василевская описывает шествие русских пленных. Я не хочу обвинять ее в несправедливости, но наша колонна в то время представляла собой иное. И вот почему.
Ржевский котёл. Люди только что попали в плен.
Одни, истощённые скитаниями по лесам, покинутые командирами, безразличные уже ко всему, подняли руки и сдались врагу.
Другие, расстреляв все патроны, не смогли избежать участи пленения, окруженные врагами.
Порохом недавних боев еще пахло над колонной, физически бойцы были еще крепки. Шли злобно, всё и вся ненавидя, проклиная.
Шли, с презрением к самим себе безучастные ко всему. И к своей жизни тоже.
Видел, чувствовал это и немецкий конвой. Боялись подходить близко, не пристреливали отстающих. Слабых колонна несла с собой.
Когда голод изводит мозг и сердце, то измена и предательство как червь разъедают боевое товарищество. Палка и кнут, застенок гестапо, издевательства, холод и голод, каторжная работа, бессонные ночи, ежедневные расстрелы могут сотворить из людей безумных, безвольных, бессильных существ, потерявших человеческое достоинство и облик.
Но пока это шли люди!
Шагаем по большой, длинной деревне. Немцы празднуют победу. Женщинам и девушкам приказано надеть лучшие платья. Разрешили всем деревенским смотреть на нас и давать, у кого, что есть из продуктов.
«Смотрите! Мы, немцы, сильны и великодушны».
И вот русские женщины и девушки стоят у дороги, кто с хлебом, кто с молоком, картошкой для нас. Сколько безумной, жгучей скорби и жалости к нам в глазах этих русских женщин и девушек, и как до ужаса больно сердцу от этих устремленных на нас полных слез глаз.
Нет, не этого нам хотелось сейчас, не слез, не жалости. Пусть бы прилетели наши самолеты, покрыли бомбами небо над нами, обрушили тысячи тонн смертельного груза на наши головы, смешали бы наши кости с родной русской землей!
(Впоследствии я видел такую картину в лагере военнопленных во Ржеве. Более тысячи пленных стояло в очереди у кухонных котлов, дожидаясь нескольких ложек «баланды».
Начиналось наступление наших войск на Ржев. Тяжелая советская артиллерия била по Ржеву. Снаряды залетали и в лагерь военнопленных. Два снаряда упали в гущу людей, стоявших у кухни, более 300 человек было убито и ранено. Но ни один из оставшихся в живых не жалел убитых, каждый завидовал их участи.
Они погибли от металла нашей родной земли, от снарядов, сделанных милыми руками родных людей. Снарядов, избавивших военнопленных от мук голода и позора. Так думал каждый. И на месте погибших моментально столпились другие. Но смерть больше не пришла. Снаряды сюда больше не падали.)
... Колонна пленных вползала на середину деревни. У красивого домика с затейливыми наличниками и резным крылечком на улицу стояла кучка немецких офицеров с огромными орлами на фуражках.
Сытые, самодовольные.
Толстая, нарядная, с подведенными бровями, ярко накрашенная женщина явно немецкого обладания, подперев бедра пухлыми белыми руками, нахально уставила на нас глаза и вдруг звонко и злобно заголосила: «Что, попались голубчики? Коммунисты окаянные, довоевались! Попили нашей крови при советской власти. Вот теперь и сдыхайте, как собаки, а мы теперь заживём при немцах. Погуляем!»
И она закрутилась, в издёвке приплясывая.
Как страшный удар бича хлестнул каждого в самое его больное место! Как уголь почернели глаза и перекосились лица многоликой толпы, тысячи голосов рявкнули смертельно раненым зверем: «Сволочь! Гадина! Немецкая подстилка! Продажная тварь!».
Гневно полетели прочь куски хлеба, картошки, кувшины с молоком, принятые от сердобольных советских женщин. Всё, что падало на землю, яростно топтали ногами. Сжав кулаки, толпа подалась к крылечку дома. Офицеры и эта накрашенная женщина в ужасе метнулись в избу. Деревенские, кто был на улице, кинулись прочь, кто куда.
Грянул залп, другой. Живые стояли тесно и не давали падать мертвым. Спеша, из сарая тащили пулеметы жандармы. Свинцовый ветер зашевелил волосы колонны, но бить по колонне немцы боялись, 10000 не расстрелять сразу. Через минуту колонна шагала дальше, оставив убитых в дорожной пыли.
«Ешь и пей их кровь!» – проходя, кричали пленные, грозя кулаками.
«Презренная, продажная гадина, оскорбившая не нас, а нашу мать - Родину!»
Вечером подошли к станции Оленино, где был большой временный лагерь для пленных. Меня, как раненого, направили в «госпиталь». Это был открытый всем ветрам огромный навес, где раньше держали сено. Там были сделаны нары из тонких жердей в три ряда. Друг над другом. Перекладины каждого ряда были привязаны тонкой проволокой к стойкам. Ложиться на такие нары очень опасно, и я лег на землю возле стойки. Огромная новая шинель, захваченная мной в лесу во время моих скитаний, спасала от холода.
И верно, случилось то, чего я опасался. Ночью верхние нары не выдержали тяжести раненных и рухнули вниз. Второй ярус нар также обломился. Всё смешалось в диком вопле.
Стоны и крики раненых раздавались до рассвета. Когда рассвело, на месте катастрофы лежала груда мертвых тел. Тела были совершенно голые, страшные своей мертвенной белизной: с них за ночь все стащили живые. Казалось, что это какая-то особая дьявольская заготовка человеческого мяса. Таков был «госпиталь».
Нога моя болела, рана загноилась, начиналось воспаление. Я понимал, что надо извлечь пулю из ноги, иначе погибну от заражения крови. Направился в «амбулаторию – сарай», где было около десятка пленных русских врачей. Войдя к ним, я многих признал, вместе были на армейских совещаниях, но меня не узнал ни один, так я изменился за это время скитаний в окружении.
«Товарищи! - обратился я к врачам, - выньте пулю из ноги.»
Осмотрели рану. Старый врач обратился к остальным:
«Попрактикуйте кто-нибудь над ним. Есть бритва и ножницы, разрежьте рану и ножницами извлеките пулю.»
« Как же наркоз?» - возразил один молодой врач.
« Пустяки, - промолвил я, - режь, как тебе надо, вынимай хоть пальцами.»
И лег книзу лицом, стиснув зубы. Хирург резал бритвой, ковырял ножницами в ране… и все же извлек пулю. Промыл и перевязал рану.
« Молодец, терпеливый. Мне даже казалось, что я резал не живого, а мертвого человека. А теперь все пойдет хорошо.»
Глава 3. В лагере.
В плену я пробыл всего сорок пять дней и писать об этом пребывании почти нечего. Голодовка, палка и плеть, масса умирающих ежедневно, обычное дело для пленных во всех фашистских лагерях.
Вместе со многими другими военнопленными я попал в город Оршу (Ст.Червино). Там было два небольших лагеря недалеко друг от друга. Мы заняли пустовавшие бараки и было просторно.
Попытаюсь описать это место.
Кругом лагеря обнесена загородь из колючей проволоки высотой в два метра. Далее через пять метров - такая же, а между этими двумя рядами обычные проволочные заграждения. По углам лагеря стоят вышки, где сидят с пулемётами по два немца на каждой. По земле от угла до половины лагеря ходят патрули снаружи лагеря. Внутри лагеря патрули ходят только по ночам между бараками. Такова была охрана лагеря.
Состав пленных здесь был уже иной, многие находились в плену более года, исхудалые, обессиленные, оборванные, свыкшиеся со своим рабским положением и не мечтавшие о побеге.
С нашим прибытием положение несколько изменилось.
Через три дня трое убежали, хотя я знал, что цель их побега не в партизанские отряды или попытка перейти фронт, а домой на Украину, где у организатора побега брат был бургомистром волости. Комендант лагеря объявил, что впредь за каждого убежавшего будут расстреливать двенадцать пленных.
Нога моя стала заживать, и я решил готовиться к побегу. Необходимо подобрать товарища, узнать местность, где леса, в каком направлении, есть ли партизаны. А где узнать?
Однажды я лежал и грелся на солнце недалеко от проволочного заграждения, в это время старик белорус, пасший немецких коров, подогнал их близко к проволочному заграждению. Немцев рядом не было, и я решил спросить старика кое о чем:
«Дедушка! - негромко молвил я, - как вы живете? Обижают немцы?»
«Немцы для того и прибыли к нам, чтобы обижать, все брать и ничего нам не давать», - угрюмо ответил старик.
«Дедушка, а далеко отсюда леса?»
«Лес? Вон видишь, всего километр отсюда. И так он и пойдет всё на юг вплоть до брянских лесов.»
«А партизаны есть, дедушка, в лесах?»
«Есть, куда они девались.»
С вышки крикнул что-то немец, и старик погнал свое стадо прочь от лагеря. Вот все, что мне удалось узнать.
Теперь дело осталось за подбором товарища к побегу. Это тоже было нелегкое дело, шпионов и предателей было немало среди пленных. Большинство разуверилось в победе Красной Армии, ибо тогда было в самом разгаре летнее наступление немцев на Сталинград. Это немцы усиленно и приукрашено объявляли пленным. Большинство лагерных узников показались мне людьми уже измученными, безвольными, с тупой покорностью к своему рабскому положению.
Лежа внизу на нарах в темную ночь, я слушаю, как вздыхая, кто-нибудь заговорит:
«Погибнем все как мухи! Сами немцы говорят, что нам жизни только до зимы, а там все сами подохнем!»
«Бежать надо», - пробую я вставить свое замечание.
« Эх, куда мы побежим, все равно поймают и расстреляют.»
Были и подозрительные типы.
Помню одного, фамилия его была Михайлов, родом, как он говорил из Москвы. Выдавал себя за писателя и поэта. Небольшого роста, корявое лицо, глаза «мороженные», тусклые. В плену с сентября 1941 года, то есть уже «перезимовавший». Меня он звал «сибиряк» дядя Саша, таково было мое имя в плену.
«Дядя Саша, - говорит иногда он вечером, лежа на нарах, - чего бы тебе хотелось теперь?»
«Хотелось бы мне, - говорю я, - в родную уральскую тайгу. Посмотреть еще раз ее дикую суровую природу. Походить с ружьем по необъятным лесам.»
«Эх ты, лесной человек. Мне бы в Москву попасть. Занялся бы я спекуляцией на «хитром рынке». Вот где жизнь, дядя Саша. Купишь, перепродашь, смотришь, в день рублей триста и «наживешь».
А жена торговала у меня летом в киоске морсом, пивом. Недольет в каждую кружку пива или морса, пена поднимется как бы сполна, и знаешь, в день составлялось рублей 500-600. Вот, когда мы жили! Пили, ели, что хотели.»
«Ну как же ты, советский писатель, занимался таким делом?»
« А ничего, одно другому не мешало. Знаешь, дядя Саша, я ведь и здесь пробовал писать стихи.»
« Что же, о чем ты писал?»
«Написал я хвалебную оду Гитлеру: «Тебя родил двадцатый век…» и так далее и тому подобное. Восхвалял. Думал, немцы учтут и паек прибавят.»
«Ну и как прибавили?»
«Ага. Отсидел в гестапо пять недель. Сначала сочли, что я чего-то оскорбительное написал, потом разобрались, отпустили. Еще дали четыре килограмма колбасы, две булки хлеба за то, что безвинно сидел!»
«Экий «слизняк» и «сволочь,- думал я, - ведь жил же в Советском Союзе и никак нельзя было увидеть, что человек такая гадина.»
Впоследствии, будучи уже партизаном, мне пришлось однажды читать немецкую газету, издававшуюся для белорусского населения. В газете был помещен пасквиль, по поводу введения ношения погонов в Красной Армии. Статья была за подписью «Михайлов».
«Все же выслужился, сволочь», - подумал я, - эх, попался бы ты ко мне теперь, прописал я бы тебе «оду»!»
Однажды в группе пленных развернулись оживленные прения по поводу событий на фронте. Часть пленных доказывали неизбежное поражение Советского Союза в войне. Один высоченный детина доказывал, что немцы всё равно победят. «Уж мы тогда расправимся с коммунистами,- смаковал он,- за всё, за всех им отплатим».
«Я же до революции имел 70 лошадей, жил в Симбирской губернии. Все пришлось бросить и самому бежать в Сибирь, иначе раскулачили бы и сослали меня, честного труженика! А теперь мы снова заживем, Бог даст, а уж куманьков их со всей породой вырежем». Лицо его было жадно и свирепо.
«Дурак ты, сволочь и предатель!» – раздался твердый голос.
Я посмотрел, кто это говорил. Пожилой пленный, лет сорок, плотного сложения, широкий «маковкой» нос, глубокие серые глаза и тонкая, как у молодого, талия.
«Ты что лаешься! Ты сам, наверное, коммунист. Вот я скажу немцам, заноешь тогда.»
« Дурак ты потому, - говорил незнакомец, - что поверил немцам. Да разве можно победить Россию! Когда это бывало в истории!
А сволочь ты, потому, что при советской власти ты замаскировался и скрывался где-то. Да и вредил нам, без сомнения. А вот теперь ты стал ещё и предателем. Ждешь ты чего-то хорошего от немцев, да ты сам подохнешь здесь от голода, а, погоди, придет Красная Армия, мы тебя сами повесим!»
Еще несколько негодующих голосов раздались в адрес предателя и он, смутившись, побрел в свой барак.
С незнакомцем, так бесстрашно выступившим против изменника, я решил познакомиться и стал искать встречи с ним. Случай скоро представился.
Глава 4. Побег.
Как-то, бродя по лагерю, я увидел моего незнакомца, он сидел на сваленном дереве и рубил топором сучья для печки. Я подошел и сел с ним рядом. У меня еще был табак – выменял на часы. Табак считался у нас как самая невероятная драгоценность. Завернул я цигарку и предложил ему закурить. Глаза его прямо таки блеснули от удовольствия. Блаженно затянувшись табачным дымом, мы осторожно начали разговор.
Звали его Козлов Михаил Петрович. Житель Курганской области. В нашей ЗУ под Ржевом он был старшим телефонистом при штабе. Участвовал в зимнем наступлении и перенёс окружение. Мы оказались «земляками-уральцами» и это нас сблизило.
« Если бы нашелся товарищ, то я бы убежал из лагеря, - говорил Козлов, - все равно здесь погибнем ни за что.»
«Я тоже ищу товарища», - промолвил я.
Мы быстро сговорились.
« Теперь, - говорю я, - давай готовиться к побегу.»
-«Что ж мне готовиться? У меня все готово.»
«А обувь есть?»
«Ничего нет, я босой.»
«Ну, вот видишь, и я босой. Значит, нам с тобой надо достать мешок и из него сшить обутки. Ведь придется бежать ночью лесами, болотами и босые ноги быстро испортим.
Во-вторых, надо иметь какие-либо ножи, спички.
И, в-третьих, надо дождаться наиболее темной ночи. Хорошо бы сильный дождь, тогда немецкие часовые будут стоять где-либо под навесом, не будут ходить возле проволоки. Куда же ты думаешь бежать?» - спросил я Козлова.
« А я прямо не знаю, бежать, только бы куда-нибудь, мне все равно.»
« Э, брат, так нельзя, надо заранее иметь план и направление. Я думаю так, если мы где-либо встретим партизан, то будем проситься, чтобы нас приняли, и мы останемся с ними. Если же никаких партизан здесь нет, то пойдем к фронту левее Витебска в район Великих Лук, там места лесные, и мы с тобой попытаемся перейти фронт. Согласен?»
«Я на все согласен, лишь бы вырваться из рук этих гадов.»
Вскоре мы добыли мешок за две пайки хлеба и сшили себе обутки. Достали спичек и ножи и стали ждать темной ночки.
Не решен был вопрос, как перебраться через проволочное заграждение. Я предложил подыскать доску и положить ее сразу на четвертый ряд высокого заграждения, а потом по ней перескочить за первый ряд проволоки, перетащить доску и положить ее на короткие колья и перейти ко второму ряду проволочного забора. Козлов предлагал просто пролезть низом через проволочное заграждение.
Так по-настоящему и не решили.
Ночь на 8 сентября 1942 года выбрана нами для побега. С вечера полил сильный дождь, сверкала молния, гремел гром, стало так темно, что буквально не видно ничего рядом с собой. В бараке все уже спят, одиннадцать часов ночи. Я сижу в полной темноте внизу на нарах, поджидая Козлова. Все у меня уже готово. Неслышно в двери вошел Козлов, нащупал меня в темноте и положил руку на мое плечо. Мы вышли из барака, дождь по-прежнему льёт, как из ведра, темень ужасная. Подошли к проволочному заграждению…
Слышно как усиленно бьется сердце в груди. Сейчас! Или смерть, или свобода…
Я поднимаю нижнюю проволоку, и мой товарищ лезет в образовавшуюся дыру. Все тихо, патруль, по-видимому, где-то укрылся от дождя. Козлов запутался в проволоке между высокими рядами, шинель трещит, слышу озлобленную ругань, снова треск шинели, звон проволоки.
«Эх, услышат немцы», думаю я.
Вдруг все стало тихо- тихо. Где Козлов? Прополз ли он? Ничего не видно и не слышно.
Теперь моя очередь.
Я поднимаю нижний ряд проволоки, готовясь пролезть по следам моего предшественника.
Вдруг громкие немецкие голоса раздаются в углу проволочного заграждения нашего лагеря.
Яркий свет двух карманных фонарей направлен в мою сторону! Немецкий патруль движется прямо на меня, но пока ещё не ближе, чем 200 метров! Положение становится критическим!
Пролезть обычным путем я теперь не успею!
И я решился на отчаянный шаг.
Сразу закинул ногу на четвертый ряд проволоки, подпрыгнул, ухватился рукой за вершину столба и в одно мгновение перекинулся через проволочный забор первого ряда. Встал ногами на короткие колья. Два, три шага по коротким кольям, проваливаюсь между ними! Вскакиваю, шинель, штаны летят в клочья, из разорванных рук льется кровь…
Ничего не чувствую, никакой боли, в голове одна мысль: «Смерть или свобода». Вот я добрался до второго ряда проволочного забора, закинул ногу на четвертый ряд, ухватился за вершину столбика…
Как ветром перекинуло меня на другую сторону. В ладонь и пальцы правой руки глубоко впились колючки проволоки…
Ох! Всей тяжестью своею я повис рукой на проволоке, не доставая ногами земли.
Дергаю руку, слышу как хрустит рвущееся мясо на руке и пальцах, но боли почти не чувствую, все тело горит в каком-то внутреннем огне.
Скорее!
Наконец оторвался и кинулся прочь от заграждения в темное поле!
Все это показалось мне вечностью, а на самом деле я потратил всего несколько секунд.
Метрах в тридцати от заграждения из темноты поднялся Козлов, обрадовано зашептал: «Как я напугался, когда патруль пошел на тебя, думал, останешься ты там, куда я пойду один? Молодец, очень ты быстро перехватил».
Мы взялись за руки, и пошли по направлению к лесу. Дождь шел, не переставая, лужи воды повсюду под ногами. Кровь течет из рук, смешивается с водой, течет и на руку товарища, перевязывать нет времени.
«Свобода, свобода!», - все поет в нашем сознании. Спотыкаясь, падая в ямы, в окопы, мы все же не сбились с пути и добрались до опушки леса в полутора километрах от лагеря. Повернули вправо по опушке леса, отошли еще около километра. Ужасно темно, плохо ориентироваться...
И мы решили переждать до рассвета. Забрались под густую ель, сели плотно друг к другу, я снял свою огромную шинель, накинул ее сверху на обоих. Стало тепло, и мы оба задремали.
Когда я открыл глаза, дождя уже не было, небо прояснилось, на востоке уже загоралась заря. Я разбудил товарища.
« Ну, вставай, Михаил Петрович, пошли дальше.»
Теперь, по заре, мы свободно ориентировались и лесной просекой пошли на юг. Прошли километра два, лес кончился, впереди чистое поле. Где начнется следующий лес, мы не знали и пошли полем на юг…
Глава 5. Наши мытарства в поисках партизан.
... Начинало светать. Вскоре подошли к деревне, наткнулись на картофельное поле. Сняли свои мешки и принялись копать картошку. Быстро наполнили походные сумы и двинулись дальше. Деревня была расположена поперек нашего пути, пересечь ее мы боялись, а вдруг немцы в деревне... или полиция. Деревня оказалась очень большая, шли не менее двух километров, и конца всё не видно было. Речка круто повернула на юг поперек деревни, берега ее довольно густо были покрыты кустарником, и мы решили перейти деревню этой урёмой. За деревней видны были снова чистые поля, но километра за полтора вдали синел еловый лес, и мы направились туда.
В поле мы наткнулись на молотильный сарай, в нем мигали фонари, стучали цепи, шла молотьба вручную. Возле дверей сарая на обрубке дерева сидел древний старик, курил трубочку. Огромная седая борода его спускалась до пояса, большие жилистые руки, сутулые широкие плечи, умные хитрые глаза. Крепкий еще старик.
Белорусские старики в (отличие от наших сибиряков) очень разговорчивы. Они вежливы, очень хитры и смышлёны. Мы сели рядом на бревно, старик предложил махорки. С удовольствием закурили и разговорились. Старик не спрашивал, кто мы, откуда и куда, он все понимал.
«Дедушка, есть у вас тут немцы?»
«Нет их здесь. Немцы только в Червино.»
«А сколько отсюда до Червина?»
«До Червина, да вёрст двенадцать будет.»
(«Значит, - подумали мы,- прошли мы уже четырнадцать километров!»)
«И далеко до того леса, дедушка?»
«Нет, вон видите! Так он и пойдет всё на юг лентой. До Шклова и дальше до Могилева, и до брянских лесов.»
«Как вам живется, дедушка, при немца?»
«Ох, и не говори, сынок. Все берут, грабят. Видишь, ночью молотим? Заставляют везти сдавать хлеб по 25 пудов с гектара!»
«Ну и как, повезёте сдавать?»
Старик хитро улыбнулся.
«Да везли один раз. Дорогой напали партизаны, завернули нас в лес, ехали, ехали, а потом приказали копать яму. Сложили в яму наши мешки с хлебом, заровняли землей и говорят: «Вот, старики, придёт зима, или мы, или вы воспользуетесь этим хлебом, а немцам - «фигу». Вот и сегодня собираемся везти... Да вряд ли довезём, опять получится то же самое...»
И старик хитро сощурил глаза, чуть улыбнувшись себе в бороду.
«Не найти ведь нам теперь, где хлеб и закопали - ночью же дело было. А молодежь нашу немцы многих забрали и угнали в Германию. Меня бургомистр наш тоже мобилизовал было волость сторожить, да скоро прогнали обратно.»
«А почему тебя прогнали, дедушка, из сторожей - то?»
«Да так, неприятное слово сказал немецкому офицеру одному, ну и прогнали. Дело-то было так.
- Сижу я на крылечке волости... караулю, значит. В волость много всякого народу гонят, бывает и ночью.
Уборной - то нет, ну и навалили кругом всей хаты этой, волости. Вонь такая, что нос зажимать. Бургомистр мне не раз говорил: «ты бы хоть навел порядок, пройти нельзя, воняет, стыдно будет перед немцами за такое свинство», а я сижу себе, хоть бы что, привык.
Приехал однажды немецкий офицер, увидел наше «благоустройство», сморщился, аж позеленел от злости и кричит на меня:
-Лус швайн, старый человек а порядка у вас нет!
- Так точно, ваше благородие, - говорю я, - нет у нас порядка, если бы порядок -то у нас был, так мы бы теперь у вас в Берлине «испражнялись».
- Немец, хорошо, что не всё понял, что я сказал... Ну а бургомистр после этого прогнал меня, говорит, с тобой беды наживешь.»
Старик дал нам пол - булки хлеба, горсть махорки, мы поблагодарили и зашагали к синеющей невдалеке опушке леса.
Недалеко от этой лесной опушки на лугах паслись стреноженные кони. Позванивали на разные голоса колокольца, подвешенные на шеи лошадей. Дымились костры, возле них сидели ребятишки, пасшие коней и, не замечая нас, о чем-то оживленно разговаривали. Эта мирная картина напоминала нам наше детство, «ночное», как любил я когда-то сидеть ночью у костра, слушать интересные рассказы о ведьмах, леших ("шишигах" – по - уральски), русалках. Слушать, как крякают утки в камышах…
«А теперь мы, -думал я, - люди «без рода, без племени», вне закона, окружены врагами. И единственное наше желание - приобрести возможность снова начать борьбу с коварным врагом, который топчет нашу родную землю!»
Вскоре мы вошли в лес. Уже совершенно рассвело. Солнце золотило верхушки деревьев. Тихо кругом, ничто не шелохнёт, птицы поют на разные голоса, воздух чист, наполнен лесным ароматом. Как хорошо бы сейчас лечь у дерева отдохнуть, сварить и поесть горячей картошки, но надо идти - мы еще не отошли и пятнадцати километров от страшного лагеря.
Лес длинной лентой уходит далеко на юг с поворотами, зигзагами, с перерывами. Видны отдельные деревушки, хутора. Их нам приходится обходить, делая большие зигзаги опушкой леса. Иначе нельзя, кто знает, на что в деревне или в хуторе можно наткнуться? На немцев или полицейских?
Отошли еще километров пять. Мой товарищ не утерпел и обратился ко мне с предложением отдохнуть и сварить свежей картошки, я согласился. Углубились подальше в лес, нашли яму с хорошей водой, зачерпнули котелки, развели в густой заросли леса огонь и сварили картошку.
Никогда в жизни мы, наверное, не ели с таким аппетитом горячую рассыпчатую картошку! Три раза наполняли котелки новой картошкой и все съели. А потом покурили и оба мгновенно уснули.
Проснулись мы уже в самый полдень, стояла тихая теплая погода. Козлов потянулся, лежа на спине посмотрел в синее небо, улыбнулся самой счастливой улыбкой и промолвил, обращаясь ко мне:
«Как хорошо - то, Александр Кузьмич! Снова мы на свободе, нет теперь над нами никакой палки. Вот так лежал бы я без конца, прямо до самой смерти, в небо глядел. Эх, как хорошо в лесу, и главное – мы свободные люди, и никому сейчас, никому не подчиняемся!»
«Да, Михаил Петрович! Мы с тобой освободили себя от немецкого плена. Но ведь это не всё, мы находимся на оккупированной территории, окружены коварным и жестоким врагом. Наши братья на фронте гибнут во имя спасения нашей Родины, а мы с тобой ещё пока никакой пользы Родине не даём. Наша задача - найти партизан, присоединиться к ним и драться с фашистами, мстить проклятым немцам за слезы, кровь и разорение нашего народа, в этом теперь наша задача.»
И тут я рассказал Козлову правду о себе: кто я и мое настоящее имя и фамилию. Мой товарищ сначала как-то недоверчиво посмотрел на меня и сказал:
«Ну вот, и зовут тебя не так, как ты говорил в лагере, и черт знает, кто ты такой...»
Я рассмеялся.
«Брось, Михаил Петрович, я не провокатор, ты сам пойми, нельзя было иначе, не мог ведь я довериться, не узнавши тебя.
Вообще, Михаил Петрович, давай будем осторожны, не доверять и населению. Знаешь, предателей и шпионов немцы имеют немало среди населения.»
Козлов успокоился.
«А..., ну что же, мне ведь все равно как звать тебя. Звал Александром, теперь буду звать Михаилом. И я Михаил, мы с тобой, значит «тезки».»
Покурили, поговорили и снова двинулись дальше лесом.
К вечеру мы подошли к какой-то довольно большой деревне влево от нас за небольшой речкой. Впереди нас лес кончался, и на опушке виднелась какая-то большая кирпичная постройка. Чтобы добраться до следующего леса, надо было пересечь довольно большое поле, в котором население жало вручную ячмень и овес. Выйдя на опушку, стали наблюдать за деревней.
По улице ходили какие-то люди.
Но кто такие? Разобрать трудно. Вдруг мое внимание привлек человек, сидящий на завалинке хаты. Приглядевшись внимательно, мне показалось, что человек одет в немецкий, мышиного цвета, мундир.
«Козлов, смотри хорошенько, ведь это немец.»
Козлов посмотрел:
«Да, похоже, что немец. Здоровый человек не будет в такой день сидеть на завалинке, когда «страда» и люди все на поле.»
Ждать ночи, чтобы перейти поле, нам сильно не хотелось. Недалеко от нас в конце деревни проходил глубокий овраг, который кончался в середине поля.
Решили пробраться оврагом. Это было очень неосторожно с нашей стороны. Но мы тогда еще не осознавали всей опасности.
Оврагом прошли благополучно
Но когда вышли на чистое поле, нас увидели все, кто жали там. Прекратили работу и удивленно смотрели на нас, никто не сказал нам ни слова, но по лицам женщин, по их страху в глазах мы понимали, что в деревне немцы и они могут заметить нас!
Мы кинулись бегом к лесу. Недаром партизаны пели песню «что лес роднее дома стал». Как мы спешили к спасительному лесу и, добежавши, юркнули в глухую лесную чащу.
«Попробуй теперь нас найти»!
Глава 6. Власовцы – народники? Кто такие «народники»?
Мы двинулись напрямую лесом в южном направлении. Уже было темно, когда мы вышли на противоположную опушку леса. В полу - километре от нас чернели крыши какой-то деревни. Приходилось проводить нашу первую ночь в лесу.
«Знаешь, Михаил, - обратился ко мне мой товарищ, - пойду я в деревню, уже очень хочется молока, авось достану.»
«Ну что же, иди! Только осторожнее. Не попадись, пройди сзади в какой-либо двор.»
Козлов отправился, а я сел под дерево и задремал. Через некоторое время он пришел радостный, оживленный.
«Михаил, смотри, полный котелок молока. Да там я выпил больше этого.»
«Ну как тебя приняли белорусы?»
Козлов рассмеялся:
«Знаешь, они никак не верят, что я бежавший из плена, а приняли меня за какого-то «народника». Хозяйка, которая наливала молока, спрашивает меня: «ты что, с поста, что ли, пришел за молоком»?»
« С какого поста?» - спрашиваю я.
« Не притворяйся и не обманывай, - говорит она, - я ведь вижу, что ты -«народник».»
«Что это еще за «народник», - Михаил, ты не знаешь?»
«Не знаю», - ответил я.
Черт знает, что это за название. Все же, я насторожился: «народники» какие-то, «посты».
«Пост… , - думал я, - что-то тут неладное.»
«Михаил, - шептал мой товарищ, - разводи, давай, огонь. Я хлеба принес, поедим с молоком.»
«Нет, Козлов, - возразил я шёпотом, - здесь огня не будем разводить, пойдем вглубь леса, там и огонь разведём, и спать будем.»
Мой товарищ презрительно сжал губы.
«Что, боишься? Ты, оказывается, не из храбрых!»
«Брось дурака валять, - промолвил я, - не в этом храбрость надо показывать, надо быть осторожным. Видишь, вот что это?» И я показал поднятый мной на тропинке, на которой стояли, окурок папиросы.
«Ну и что, окурок и все.»
«Кто же теперь из белорусов курит папиросы, ты подумай! – ответил я, - партизанам тоже негде взять их, папиросы эти. Это курили немцы или полиция.»
Козлов задумался:
«А, ну ладно, быть по-твоему, пойдем в лес.»
Я зачерпнул в низине котелок воды, и мы двинулись вглубь леса. Отошли порядочно, забрались в непроходимую чащу и тут развели огонь. Устроили форменный пир, картошку жарили, с молоком делали «пюре», ели в мундире, наелись так, что я наутро заболел поносом. Вознаграждали себя за голодовку в плену.
Только потом мы узнали, как кстати была принятая мной осторожность.
Лес, которым мы шли, был блокирован изменниками «власовцами», которых тогда белорусы называли «народниками», да и власовцы так приказывали себя именовать.
Местность была на военном положении, все лесные дороги и тропы заняли и стерегли от партизан «власовцы», немцы, полиция.
Ввиду этой блокады, партизаны ушли аж в Лепельский район Витебской области, километров за 250 отсюда. Остались только не успевшие уйти диверсионные группы. Да ещё небольшой отряд партизан под командой Суворова. За этим отрядом и рыскали немцы, власовцы и полиция.
Все потом удивлялись, как мы проскочили в это время и этими лесами! Спасло нас то, что я, охотник и уралец, избегал идти дорожками и тропинками, а шел лесом напрямик по солнцу, невзирая на недовольные бормотания моего товарища, которого все время тянуло или на дорогу или на тропинку.
Всех, кого находили в лесу, невзирая на возраст, пол и личности, враги тут же на месте расстреливали без всякого допроса. Только счастливая случайность спасла нас от этой участи, ибо в тот момент, принимая меры осторожности, я не имел никакого понятия о размерах опасности и окружающей нас обстановке охоты за партизанами.
Ещё не взошло солнце, а мы уже тронулись в путь. Ночью выпала сильная роса и, шагая густой травой, зарослями леса, мы оба сильно промокли. Мой товарищ ругался, требовал пойти или дорогами, или тропинками. Я категорически отказался. Вот и шли мы всё время серединой леса.
Солнце уже начинало всходить, когда мы подошли к хорошей грунтовой дороге («шлях» по-белорусски»), пересекавшей наш путь. Я осторожно стал подбираться к дороге, оглядываясь по сторонам.
Метрах в тридцати от неё на небольшой поляне мы увидели свежевырытый окопчик бруствером к дороге. По свежепримятой подстилке из травы и окуркам было видно, что отсюда только что ушли два человека. Один с автоматом, другой с винтовкой. Это было видно по тому, что на мягком бруствере окопа остался отпечаток «дырявого» кожуха ППШ, а по следам колец на ложе винтовки, она была немецкой. Гвозди на подошве немецких ботинок также ясно отпечатались на следах ушедших. Кто и кого подкарауливал из этой засады, мы точно не могли определить и, отойдя метров тридцать вправо, осторожно вышли на дорогу.
Глава 7. Поцелуй французского «иуды».
Влево от нас, метрах в ста, по обе стороны раскинулась кругом в лесу деревня. В конце деревни отдельно и к нам передом стояли на бугорке четыре домика.
Рядом у дороги была виселица буквой «П», на перекладине висели три трупа. На груди у повешенных приколото по большому белому листу бумаги с надписью большими черными буквами «Бандиты».
Лучи солнца, чуть выйдя из-за леса, ярко освещали головы и грудь несчастных. Двое повешенных были мужчины в холщовых штанах и рубахах, третья была молодая девушка, совершенно голая, длинные русые волосы рассыпались по плечам, чуть-чуть прикрывая щеки. Лицо было белое, а не черное как у повешенных и не обезображено смертью. Она была, по-видимому, убита пулей и уже мертвой повешена. Мужчины - оба не старые, высокого роста. Девушка скорбно склонила голову на бок, ее лицо удивительно напоминало распятого Христа на иконе.
Нам не в первый раз приходилось видеть зверства врагов, но это было в обстановке войны, сожженных деревень, изрытой взрывами земли.
А здесь - тихое ясное утро, молчаливо - зеленеющий лес, тожественно-ликующая природа, мирная, спящая деревня... и трупы повешенных.
Козлов схватил меня за руку:
«Михаил, что это? За что? Вон эту молоденькую… за что, а?»
В глазах его стояли слезы.
« Эти казненные - без сомнения партизаны, Михаил Петрович! Как видишь, война идет и здесь, далеко от фронта, в тылу врага. Война необычная, народная и придет время, мы с тобой отомстим палачам за себя, и за наш народ, и за этих…» Я сглотнул слезу.
Снял пилотку, Козлов тоже. Потом тихо повернулись и пошли прочь от страшного места.
Впоследствии, принимая партизанскую присягу:
«Я - сын моего народа, клянусь беспощадно, дерзко и смело мстить врагам за кровь, слезы и разорение моего народа», - я вспомнил эту картину страшной казни. И мне казалось, что я присягаю и клянусь перед этими мучениками, а не перед отрядом.
Потом мы узнали от жителей, что казненные были партизаны-разведчики отряда Суворова.
В этой деревне они столкнулись с карательным отрядом гитлеровцев, состоявших в большинстве из французов.
В перестрелке эта молодая девушка была смертельно ранена в грудь. Француз, пожилой сержант, подойдя к умирающей, поцеловал ее в лоб, пробормотав что-то на ломаном русском вроде: «потомок воинов якобинского конвента, став в роли палача, душителя свободы отдал дань своим революционным предкам в прощальном поцелуе Иуды». А остальные расправлялись уже с мертвыми, повесив их для устрашения живых.
Все, увиденное нами, насторожило и моего товарища. Он больше уже не ругался и не ворчал, когда я вёл его через чащу леса, болотами. Не по дорогам и тропам, а прямо лесом. Иногда мы встречали заросли малинника, останавливались и как медведи ели вкусную малину.
Часов в двенадцать дня вправо от нас и впереди загремела частая ружейная и пулеметная перестрелка, изредка раскатисто грохотали минные разрывы и взрывы ручных гранат. Что делалось в лесу, мы толком не знали.
Козлов обратился ко мне:
«Я думаю, это немцы стреляют по нашим самолетам.»
«Что ты, Михаил Петрович! – ответил я,- где же самолеты? Их не видно. Это, по-моему, борются партизаны с немцами, не иначе.»
А в душе хотелось мне сказать: «Это умирают партизаны».
«Сколько геройства у русских людей, -думал я, - окруженные врагами, далеко в тылу от фронта, без всякой надежды на помощь, горсть храбрецов ведёт войну против сотен тысяч вооруженных врагов фашистов всех национальностей!»
«Пойдем прямо на выстрелы, - решил я, - может, попадем к партизанам.»
И мы пошли. Стрельба прекратилась, а мы все шли и шли вперед и никого не видели и не встретили, и никаких следов боя не нашли. По-видимому, где-то в лесу произошла короткая и жаркая схватка, но лес широк и где это было? Не скоро найдем.
Солнце клонилось к западу, пахнуло живительной вечерней прохладой, кругом мертвая тишина, как перед грозой. «Почему-то нет ни одной птицы», - молвил мой товарищ. И как бы в ответ на это вправо от нас совсем близко раздалось родное нам «ку-ка-ре-ку».
«Вот и птица сказалась, - засмеялся я, - да еще какая!»
И мы пошли прямо на петушиную песню.
Вышли мы к деревне Орехово Круглянского района Могилевской области. От места нашего заключения отошли мы уже на сорок пять километров.
Деревню Ореховку полукругом с трех сторон окружает лес. Концы полукруга кончаются в четырех километрах от деревни. Дальше лес кончался, и шло широкое поле более тридцати километров. А за этим полем - снова леса вплоть до Минска, Березины, и Полесья. Конечно, с перерывами: с деревнями, хуторами.
Несмотря на поздний вечер, в поле у деревни белорусские женщины, мужчины и подростки, жали ячмень и овес. Мы решили перейти полем на противоположную опушку леса.
Предварительно произвели «разведку». Недалеко от опушки леса жала ячмень молодая высокая женщина. По-пластунски бороздой ячменной полосы мы неслышно подползли к ней и сели, как по команде, на снопы ячменя буквально в пяти шагах от женщины. Обернувшись, чтобы положить жмень ячменя, она увидела нас.
«Не кричать, -угрожающе прошептали мы, - сядьте!». Женщина даже и не вздрогнула, не смутилась, а с любопытством и милой, доброй, родной, русской улыбкой взглянула на нас. Ясно стало для нас, что не так грозен и величав наш вид: худые, оборванные, немытые, безоружные, мы могли возбудить только жалость. Женщина спокойно оглянулась, повела глазами по полю и не торопясь села против нас на снопик ячменя.
«Родненькие мои! Я же думала - мой Андрей. Вы из плена бежали? Миленькие, ой, ведь вы же наверно вовсе не кушали никогда!»
Женщина встала, принесла корзину, достала кусок хлеба и два огурца.
«Покушайте, мои несчастненькие, осталось от обеда.»
Мы с благодарностью взялись за еду.
«Мой Андрей с первого дня был взят, ой, также может быть где-нибудь ходит…»
И слезинки блеснули на ресницах добрых, прекрасных глаз.
Наевшись, мы приступили к расспросам.
«Как живете при немцах, бабонька?»
«Ой, не говорите, что только делается! Рыскают, как звери: немцы, французы, народники, полиция. Гонят в Германию молодой народ, оставили по одной коровушке на три дома, да и тех хотят забрать. Партизанской считают нашу деревню. Ох, не жить нам! Погибли мы, все погибли!»
«Ничего, тётенька, переживем всё, - утешали мы женщину, - придет снова Красная Армия.»
«Ой, придет ли? Уж так хватаются немцы, все они забрали, уже они в Сибири будто бы… Далеко эта Сибирь?»
«Ну, до Сибири они зубы себе поломают! Вот погоди, погонят их, только держись.»
«Ой, если бы так, любенькие.
Куда вы теперь денетесь, несчастненькие? Босые, оборванные, поймают вас немцы или народники, убьют, сразу убьют.»
«Не поймают, тётя.»
«А как вы до зимы доживете? А зимой, что будете делать?
Погибли вы, погибли, мои родненькие, а дома у всех вас дети, жены есть, наверное. Брали мы много пленных к себе «в приймаки», кормились, у нас жили, а теперь немцы запретили и это. Спаси Бог, кусок хлеба дать, убьют, сразу убьют.»
Она почти завыла...
« Ой, куда вы денетесь? Уж жили бы лучше в лагере.»
«Нет, тётенька, мы не пропадем. Встретим партизан и будем вместе с ними воевать. Есть у вас тут партизаны?»
Женщина, вдруг испуганно огляделась кругом.
«Что вы сказали? Да разве можно так говорить! Нет никаких партизан! Ничего я не знаю! Ой, уходите, не знаю я вас. Ничего я не знаю. Вон моя хата у леса на той стороне. Нет никаких партизан, и не спрашивайте меня ни о чем, уходите! Не знаю я вас. Ой, да идите же вы от меня, окаянные, беды с вами наживем!»
Мы покинули перепуганную женщину, ничего не добившись, уползли в кусты и стали ждать ночи.
Совершенно стемнело, когда мы двинулись через поле к противоположной опушке леса. У конца деревни, метрах в двухстах от леса стояла хата, мы решились зайти. В избе тускло горел каганец ("каганец" - черепок, в который наливают сало и кладут светильню). Вошли не слышно и поздоровались, не видя никого. От печки вышла та женщина, с которой мы разговаривали в поле.
«Что вам надо, родненькие?»
«Тетя, дай нам молочка, хлебца и табачку.»
Женщина вздохнула, вышла из избы, оставив нас одних. Вскоре вернулась, неся крынку (горшок) молока, простокваши, пол - булки хлеба и порядочный пучок табаку.
«Возьмите, родненькие, и уходите скорее! Скорее уходите, слышите!»
В голосе её слышалась большая тревога.
Глава 8. Мы встречаем партизанский отряд Суворова.
Бегом мы добежали до опушки леса. Шагнули в лес.
«Стой, руки вверх!». Тихо раздалась команда, звякнули затворы, и черные стволы винтовок направились прямо в нас. Мы подняли руки.
«Окружить!». Нас окружили. Я стал считать, их было восемь. Одеты хорошо, почти все в кожаных тужурках, брюки галифе, часть в ботинках. Один с биноклем. Чисто выбритые, здоровые, молодые. Смотрят с любопытством на нас. Вооружены винтовками без штыков. У одного ручной пулемет, один с ППШ, у каждого за поясом по две гранаты. По такому облику и по всему, я инстинктивно узнал партизан. Нас быстро обшарили.
«Документы есть какие-нибудь?» – обратился к нам один из партизан.
Я улыбнулся: «На что вам документы, товарищи, коли мы сами на лицо?»
Партизаны улыбнулись в ответ: «А почему вы знаете, что мы вам товарищи?»
«Чутьем», - ответил я.
«Ну, это брат, это не всегда удается, на чутье не надо надеяться, а вдруг мы полицейскими окажемся, тогда что?»
« Расстреляете и все! – ответил я.
«Ну, это ни к чему, уж умирать, так с музыкой.»
Подошел, по-видимому, командир, пожилой мужчина лет сорок или даже более, с черной бородкой. Начал допрос:
- Откуда идете?
- Из плена бежали, из города Орши, ст.Червино.
- Когда бежали из лагеря?
- В ночь на восьмое сентября.
- А сегодня десятое, здорово вы прошли. Где шли?
- Все время лесом.
- Слышали сегодня стрельбу в лесу?
- Да, слышали.
- Удивительно, как вы прошли. Лес кругом блокирован немцами. Ну, ваше счастье должно быть.
Нас расспросили обо всем. Пришлось рассказать всю свою биографию. Узнав, что я коммунист, бывший партработник, командир стал мягче.
- Что вы думаете дальше делать?
- Мы бежали из плена с единственной надеждой встретить партизан и вместе с ними продолжать борьбу против врагов. Возьмите нас к себе, мы просим вас.
Командир задумался.
«Знаете что, - заговорил он, - откровенно вам скажу, мы сами сейчас в таком же положении, как и вы. Мы разбиты, базы потеряны, отряд рассыпался кто куда. Я не могу вас взять теперь, в такой обстановке.»
- Что же нам теперь делать?
- Идите вот этой опушкой леса. Придете к деревне Пасырево, четыре километра отсюда. Найдите старосту деревни, не бойтесь, он наш человек, и скажите ему, что Котов просит его оказать вам содействие, замаскируйтесь там в клюквенном болоте, я в нем тоже спасался, и дожидайтесь, мы за вами придем. А вы пока отдохнете и окрепнете. Будьте осторожны. Молодцы вы, что сумели удрать от немцев. Сумейте теперь сохранить себя здесь, вот в таких условиях.
И сколько мы не просили, командир остался непоколебим. Пришлось покориться.
« Где будете ночевать?» – спросил он.
«Здесь в лесу», - ответил я.
«Ну, идите. До скорой встречи, товарищ комиссар», - и он пожал нам руки.
***
А встреча эта состоялась почти через год.
Впоследствии, проходя со своим партизанским отрядом по лесам Белыничского района, мы нашли в лесу могилу с тумбочкой и звездой, на тумбочке были выжжены слова: «Здесь покоятся тела командира партизанского отряда товарища Суворова, комиссара отряда и начальника штаба. Пали смертью храбрых в непрерывном бою с фашистами 25 октября 1942 года».
Волки разрыли могилу, и черепа погибших белели возле памятника.
Страшно неопытными командирами оказались Суворов и его штаб. Их окружили в этом лесу немцы, власовцы и полиция. Выйти из окружения в лесу темной ночью, то есть пробиться отрядом, не было особой трудностью. Сколько раз нам приходилось так пробиваться и всегда без значительных потерь. Суворов же поддался панике, он приказал отряду разбиться на мелкие группы и просочиться, кто как сумеет, сквозь цепи врага. Сам со штабом остался, замаскировавшись в дупле большого дерева, где их нашла немецкая овчарка. Многие партизаны погибли поодиночке, остальные целую зиму бродили по 2-5 человек и бедствовали.
«Взял бы ты меня тогда, -думал я, - не допустил бы я тебя до такой глупости.»
И я приказал придать погребению кости погибших.
***
Попрощавшись, мы углубились порядочно в лес. Выбрали могучий лес, кругом густая роща, развели огонек, постлали веток под себя и крепко уснули.
Впоследствии один из партизан этой группы, оставшийся в живых, рассказал нам, что после нашего ухода они одумались и решили вдруг, что мы - шпионы (у страха глаза велики). Долго искали они нас, чтобы кончить, но так и не нашли. Мы уже стали приобретать порядочный опыт маскировки, становились волками.
Глава 9. Мы решили зимовать. Подготовка зимовки.
И вот, мы снова остались одни.
Теперь я хочу рассказать, что представлял из себя мой напарник М.П. Козлов. Парень он был очень крепкого сложения, никогда не болел простудами, но сердце его иногда «пошаливало». Говор его был очень оригинальный, с полным набором уральских «словечек»: сям (сам), тожно (тоже), заяс (заяц), девша(уважительно - девушка) и тому подобное. Обороты речи его иногда меня до слёз смешили. «Жил я там хорошо, баба одна, знаш, захаживал я к ней часто». Или так: «Иду со гроты» (с огорода), «обрволась, легит котошка» (упала, лежит кошка)… Что «делать» - он говорил «кого делать» или так мог сказануть: «девки с ягодами на базар, много их было у нас».
Козлов был типичный челдон. Хозяйственный, скупой. Вдруг ему показалось, что я много ем против его. И он предложил «добыват пишшу про себя каженому и исть про ся каженому». И даже лозунг привёл: «Каждому – по труду».
В политике разбирался плохо, но бухгалтерию любил безумно. Целые ночи он готов был говорить о том, какие плутни он раскрывал у бухгалтеров, будучи в ревизии. Из всего ленинизма он знал только одно: «Социализм – это учёт». И твёрдо говорил, что без хорошей бухгалтерии никакого социализма немыслимо. Когда впоследствии в партизанах он стал подрывником и ходил взрывать эшелоны противника, я его спросил однажды: «А что, Михаил Петрович, опасная ваша работа?»
«Да! Когда подходишь к железке, то на 99% считаешь себя в могиле. А для жизни остаётся только 1%. Вот его и надо всегда найти».
Он прекрасно ориентировался в местности. В этом было моё слабое место. И я от него многому научился в этом искусстве, в конце концов поборов в себе этот природный недостаток.
Храбрость его была особенной. Бывало, он долго смотрит, прислушивается… и вдруг кинется напролом, не разбирая никакой опасности. Но не выдерживал он неожиданностей.
Однажды лесом мы шли большой группой партизан. Вдруг, сзади нас грянул залп. Козлов как олень ловко прыгнул и моментально удрал в чащу. Да, долго потом над ним хохотали. Выстрел-то был случайным.
А вообще, он был храбрый парень, честный. Ненавидел мародёров. С местным населением обращался хорошо и его далеко вокруг знали.
Наши неудачи на фронте, по его мнению, были потому, что многие командиры не понимали «ни уха, ни рыла», а «задавались очень над солдатами». Причём в доказательство своих слов Козлов всегда приводил примеры «плохих» и «хороших» командиров, только «хороших» командиров у него всегда оказывалось меньше, чем плохих.
В нашу победу над Германией Козлов верил твёрдо потому, что в истории «никто и никогда Россию победить не мог»!
Вот с каким человеком мне пришлось вместе пережить самую страшную в моей жизни зимовку.
Весь следующий день мы подыскивали удобное для зимовки место. Нашли указанную довольно большую поляну с болотом в средине, в котором была пригодная для питья вода. Лес был густой, саженный, полосками и бороздами. Борозды почти тоже заросли, а на полосках между бороздами стала непроходимая сплошная чаща.
В этой чаще мы и решили копать себе землянку. Метрах в четырёхстах от нашего жилья шла трактовая дорога из районного центра «Круглое» в деревню Пасырево. По другую сторону леса, почти в километре от нас, шла другая дорога. От деревни Пасырево до нашего жилья, похоже, было около километра. С дороги хорошо были слышны разговоры проезжающих и пешеходов.
Место для зимовки, выбранное нами, было очень рискованным. По дороге почти каждый день из Круглого проезжали или немцы или полицейские в окрестные деревни. Причем, проезжая лесом, всегда активно обстреливали лес, боясь, по-видимому, партизанской засады.
Выбор места нами основывался на том предположении, что никому в голову не придет возможность проживания кого-либо в таком лесу прямо под носом у врага.
Исходя из этого, мы и землянку строили необычную, это была почти квадратная яма в рост человека длинной и два метра шириной, глубиной всего метр. В ней можно было только сидеть, не задевая потолка. Копать глубже было почти невозможно.
Во первых - земля оказалась твердая как камень.
Во-вторых, мы боялись, что много выброшенной земли некуда будет девать. Копать днём мешали ребятишки, которые сновали по лесу, ища грибы. И если бы кто нас увидел за работой – считай, всё! Дело пропало! О нашем местожительстве будут знать. Поэтому мы торопились быстрее закончить работу и замаскироваться.
В стенке ямы выкопали печку. Дымоход вывели наружу в кусты. Вместо дверей мы просто оставили небольшую дыру, в которую можно было пролезть на брюхе, и затыкалась она пучком связанных вместе сучьев.
Яму перекрыли жердями, закидали землей, землю разровняли так, что никакого бугра не стало заметно. Покрыли сверху мхом и осыпавшейся хвоей, насадили почаще молодых елочек и так искусно замаскировались, что рядом пройдешь - не заметишь наше жилье. В полу землянки, вдоль, сделали углубление для прохода. По обе стороны прохода - лежанки головой к печке.
Так мы приготовились зимовать долгую зиму в тылу у страшного врага. Окна никакого не сделали. Освещали тем, что ночью жгли огонь в печке, а днем иногда открывали отверстие в нашем входе.
Истопив нашу печку, мы закрывали отверстие в трубе прямо из землянки мокрым пучком соломы. От углей в землянке становилось тепло. Недалеко от жилья вырыли яму для картошки, покрыли землей и замаскировали. По ночам ходили за картошкой на поле. Создали неприкосновенный запас, пудов 20 картофеля, на случай «блокады».
Итак, наше жилье было готово. Мы приготовились зимовать.
Глава 10. Страшная зимовка 1942-43 годов.
... Молча стояли мы оба перед дырой в нашу «берлогу».
... Каждый думал свою думу.
Не сбылись мои надежды попасть по осени к партизанам. Организовать свой отряд, нечего было и думать. Приближалась зима, и в этих местах партизаны могли появляться только время от времени, но не проживать постоянно. Да и кто пойдет за нами, за неизвестными людьми, безоружными к тому же.
Здоровых мужчин, конечно, много по белорусским деревням, но они предпочтут прожить зиму дома в тепле. Хлеб у них есть, немцы их не очень пока беспокоят, а там, по весне, видно будет, что делать.
Мы бежали из плена с желанием снова обрести возможность бороться с врагом, а положение заставляло нас бездействовать все зимние месяцы. А впереди какая судьба нас ожидала?
Неизвестно.
Или перенесу зиму или погибну от холода и невзгод, а может быть, по нашему следу нас найдет полиция или немцы и пристрелят в этой яме...
Может быть, мы приготовили себе могилу.
Вообще, мы считали себя людьми, обреченными на гибель, и чувство тяжелой безысходной тоски не покидало нас вплоть до весны.
Наступило 6 ноября 1942 года. Канун дня Великой октябрьской социалистической революции. В ночь на 7-е выпал глубокий снег. Все вокруг было заснежено и нашу землянку окончательно замаскировало.
Высунув голову из норы мы как дикие зверьки озирались кругом. Как теперь пойдем в деревню, когда закончатся все продукты?
След-то никуда не денешь!
Более десяти дней мы не выходили из леса никуда, даже в лес за дровами, пользуясь запасом продовольствия и дров. Снег не растаял, а наоборот. Его выпало еще больше.
Через пятнадцать дней мы доели последние крошки хлеба, как ни экономно расходовали его. Вечером решили пойти в деревню, погода благоприятствовала нам, начинался снегопад. Уже стемнело, когда мы подходили к опушке леса перед деревней. Долго стояли в кустах и прислушивались. Тихо в деревне. Быстро перескочили дорогу и зашли в крайнюю хату. Хозяин удивленно смотрел на нас.
«А мы же думали, что вы давно ушли куда-то, а вы все ещё здесь живете».
«Куда мы пойдем зимой, хозяин.»
«Да, пожалуй, что вам придется здесь зимовать. Ну, ничего, ребята! Не падайте духом, у нас народ хороший, не выдадут и прокормят вас до лета, только будьте сами осторожны.»
В каких-нибудь полчаса мы обошли знакомых мужиков. Нам дали хлеба, картошки, капусты, табаку и даже волокна конопли мне на лапти. С полными сумками мы темной ночью густыми зарослями леса двинулись к своему жилью. Снег валил не переставая и засыпал наши следы.
В землянке затопили печку, стало тепло и светло. Сварили суп из картошки и кислой капусты, вкусно поели, покурили, и на душе как-то стало легче. Принесенные продукты мы пересчитали. Решили, что нам хватит на две недели. Все вокруг завалило снегом, а нашу берлогу теперь не заметишь, даже если и пройдешь прямо над ней.
Так началась наша зимовка. Потянулись однообразные зимние дни. Из своей берлоги мы только выходили за дровами метрах в трех от нас. Сухой ольховник мы ломали на дрова. Печку топили только по ночам. В яме было тепло.
Партизаны больше в деревне не показывались, зато полиция и власовцы наезжали почти каждый день. Их прибытие и отбытие мы всегда знали, потому что проезжая лесом мимо нас они ожесточенно обстреливали лес из винтовок, а иногда и минометным огнем. В тихую погоду до нас отчетливо доносился их разговор.
Самым скверным в нашем положении было то, что мы не мылись в бане и не меняли белье. Пустить нас помыться в бане никто не решался, боялись друг друга. Грязь и паразиты нас буквально заедали. Каждый день мы выходили из землянки, но все равно тело гудело. Кожа становилась твердой как пергамент. Нас начинала давить тоска, и мы почти все время оба молчали. Каждый думал о своём.
Неотступно стоял вопрос – что делать? Где и в чем выход?
Особенно это мучило моего товарища. Почти каждый день он изводил меня одним и тем же вопросом - что будем делать дальше?
« Жить дальше!- отвечал я, - проживем зиму, если не убьют. А не попадем к партизанам, тогда пойдем к фронту и перейдем к своим».
Я начинал вслух рассуждать, где и как можно перейти фронт, вспоминал топографические карты, утешал, как мог, Козлов понемногу успокаивался.
Иногда он выскакивал ночью, хватался за грудь руками и тихим шепотом начинал просить меня что-нибудь рассказать ему:
- Михаил! Душит меня тоска, сердце шалит, - говорил он.
Я разводил огонек в печке, становилось светлее. Над головою шумела снежная вьюга, темная длинная ночь. Я начинал рассказывать, всё, что мной было прочитано раньше. Романы Загоскина: «Русские в 1812 году», «Русские в 1612 году», «Аскольдова могила», что помнил из Пушкина, Лермонтова и других писателей. С советской литературой Козлов и сам был несколько знаком. Долго, иногда до рассвета, говорил я. И сам отвлекался от мрачных мыслей и отвлекал Козлова.
«Ну вот, сразу и легче стало, - говорил он. - А то молчим оба, прямо невыносимо.»
Глава 11. Волк.
Чтобы провести время с какой-либо пользой, я начал преподавать Козлову «Курс политической экономики». Восстанавливал подробно весь материал политической экономики, который я преподавал до войны в техникумах. Надо сказать, что материал, преподаваемый мною, сильно увлёк Козлова, расширяя его политический кругозор.
Он часто говорил мне: «Только теперь я понял, что гибель капитализма неизбежна, а социализм непобедим! И пусть фашисты сейчас радуются временным победами, все равно в конечном итоге мы победим!»
Научное обоснование возникновения и гибели капитализма, неизбежность победы социализма, вселяли в него дух уверенности, бодрости, духовно закаляли для дальнейшей борьбы.
Но томительно и скучно тянулись дни. Мы становились все мрачнее и угрюмее. Что делается на фронте? Ничего нам не известно. Иногда ясной морозной ночью высоко-высоко в небе загудит пропеллер самолета. Как сильно забьется сердце! Не дыша, мы прислушаемся к гудению. Может наш?
В голове начинают бродить фантастические мысли. Вот самолет садится на поляну возле нас. Мы бежим к нему.
- Товарищ! Возьми нас!
Но наш самолет уходит дальше... и мир фантазии прерывается.
...Часто по ночам я вижу сны.
Вот я - молодой, мне всего 18-20 лет. В сатиновой рубахе-косоворотке иду с гармошкой по деревне с гурьбой девушек и ребят. А как я играю! Как пою! Потом пускаюсь в пляску. Пляшу самозабвенно, быстро и легко.
...Иногда я в Ирбите. Темная ночь, на вокзале темно, в городе темно. Почти бегом иду знакомой улицей к своей квартире, сердце усиленно бьется. Вот и квартира. Темно в окнах, холодно в сенях, холод на сердце. Стучу и стучу в двери – ни звука. Дом нежилой. Где семья? Кого спросить? Иду по улицам и забегаю в дома, нет никого. Как я попал сюда? Страх начинает сверлить мозг, и я просыпаюсь. Долго не могу прийти в себя. Где я? Под головой что-то глухо шумит. Что это шумит? Проезжающая по дороге машина...И я по-прежнему в землянке.
И так ночь за ночью.
Однажды рано утром, когда чуть рассвело, пошел я за водой на полянку, где был наш "колодец". Зачерпнул в котелок воды и поставил его на снег.
Почувствовав чей-то взгляд, я оглянулся и на противоположной стороне поляны увидел большого матёрого серого волка! Он сидел на задних лапах, подняв голову, и смотрел на меня жёлтыми, понимающими, твердыми и острыми, просто стальными глазами. Я удивленно глядел на него. Мысленно между нами шел следующий разговор.
Я: - Если бы у меня была винтовка, я бы не убил тебя, потому что мы с тобой в одном положении.
Волк: – Я вижу, потому и сижу спокойно. Но я волк уже 15 лет. А вот ты, ты еще только становишься волком.
Я: – Да, я уважаю тебя, ты жил и живешь всеми гонимый, всеми преследуемый. Ни пуля, ни западня, ни собака, ни белорус, ни немец – ничего с тобой не смогли сделать.
Волк: – А ты думаешь, сразу я стал таким? Нет, годы и годы я много раз боролся за жизнь и, победив смерть, стал волком.
Я: – Я тоже буду волком, хитрым, выносливым, беспощадным, умеющим и бегать, и убивать. Но убивать только один вид животных - я буду душить немцев! Только душить. А мясо тебе!
Волк: – Понимаю, ты будешь душить немцев за то, что по их милости ты стал волком.
А я стал волком по милости всех вас - людей. Прощай!
И Волк тихо скрылся в лесу.
Часть 3. Партизаны-подрывники.
(Из воспоминаний бывшего комиссара 25-го партизанского отряда Шкловской ВОТ)
Глава 1. Встреча в лесу. Зимовщики находят партизанский отряд!
Шел 1943 год. Разгромив немцев под Сталинградом, Советская Армия развертывала победоносное наступление, гоня врага на запад, освобождая города и села Советской Родины. Решительный час расплаты с нашим врагом неумолимо приближался.
Партизанские движения в тылу врага принимали всё более широкие размеры, а в Белоруссии оно перерастало во всенародное восстание. Почва горела под ногами немецких захватчиков. Смерть ждала врага всюду, где бы он ни находился. Партизаны взрывали эшелоны противника с боевой техникой и людьми, разрушали мосты и средства связи, облегчая страдный путь наступающей Советской Армии. Не укрылся от народных мстителей ставленник Гитлера в Белоруссии рейхскомиссар Вильгельм Кубе. Партизанская «маломагнитка» * разорвала его жирное тело в его собственной постели.
(*Маломагниткой называли небольшую мину с часовым механизмом.)
... Белоруссия. Апрель месяц на Могилевщине в этом году был необычайно теплым. Во второй половине апреля снегу не было нигде, даже в глухом лесу. Стояла ясная, тихая, теплая погода.
Партизанский отряд бригады «Чекист», проделав двухсоткилометровый переход через леса, болота и топи, сегодня ночью пришел к месту назначения. За короткую весеннюю ночь партизаны прошли почти семьдесят километров и, как скошенные, повалились на мягкий мох под вековые могучие ели и сосны. Здесь предполагалось пробыть несколько дней, наметить план действий, распределить силы.
Необходимые дозоры и караулы были выставлены, а остальные люди спали вповалку, не поужинав и не разводя огня. Страшная усталость давила каждого к земле.
Наступило 21 апреля 1943 года.
Рано утром солнце ласково позолотило верхушки сосны и елей, а трудолюбивый дятел уже вовсю долбил себе "хлеб насущный".
Проснулись повара, Маша и Катя, развели огонь и принялись готовить завтрак для партизан.
Сгорбившись и повесив голову, шагал взад и вперед командир отряда, товарищ Иванов. Разогревшись вчера при переходе, имел он неосторожность напиться очень холодной воды, и теперь ангина не давала ему покоя.
Когда солнце уже обогрело землю, а завтрак был готов, проснулись остальные партизаны. Вылез из-под своей накидки и комиссар отряда, Счеславский Петр Игнатович, в прошлом инженер-электрик. Красивый мужчина, высокий, стройный, чёрные как смола волосы, лихо закручены усы.
Любили и уважали партизаны своего комиссара. В нём видели своего отца, друга, учителя и боевого товарища-командира.
Комиссар вместе со всеми разделял все невзгоды партизанской жизни, воспитывал людей в духе любви и преданности к Родине, к партии и правительству. Живое слово комиссара заменяло здесь газету, радио, литературу, которыми пользуются люди на «большой земле». Комиссар находил слова утешения для отчаивающихся, вселял уверенность в победе над фашистскими извергами, ежечасно мобилизовал силу и волю людей на борьбу с коварным врагом.
Центральный Комитет Коммунистической партии видел, как нужен и необходим комиссар в партизанских отрядах, и институт комиссаров сохранился до конца партизанской войны.
Комиссар Счеславский взял солдатский котелок, подошел к небольшому бочагу с водой, зачерпнул воды и умылся, привел в порядок усы и волосы и пошел в расположение отряда.
Партизаны, народ в большинстве крепкий, закаленный, уже кончали завтрак. Отоспались за ночь, теперь поели супа, масла с хлебом, картофельного пюре с салом. Они курили и перешучивались возле небольших костров.
« Ребята! – кричит партизан Скорба, – комиссар идет!»
«Ну, как он выглядит?» – кричат ему в ответ.
«Усы накручивает!» - кричит Скорба.
«Ого! Ребята! Значит, опять немцев долбанули», – кричит молодой партизан. Сын Озоренок. Еще в отряде был Озоренок отец.
Партизаны давно уже подметили, что если комиссар закручивает усы, то, значит, Красная Армия опять достигла успехов. Комиссар каждый день получал из штаба бригады сводки Советского информбюро.
На этот раз комиссару не пришлось проводить обычную беседу с партизанами. В лесу показался почти бегом спешащий к лагерю один из партизан секрета, поставленного на ночь, Родионок , парень лет двадцати пяти, здоровый, крепкий.
Подойдя к комиссару, Родионок доложил:
« Товарищ комиссар, на наш секрет, расположенный у просеки на деревню Ореховку наткнулись два человека, бежавшие из немецкого лагеря военнопленных и просят принять их в отряд.»
« Ну и как они выглядят?»
«Очень плохо, товарищ комиссар! Один-то еще ничего, лет сорока пяти, хотя и худой. Но его можно поправить, а другой… Товарищ комиссар, он седой, худющий, высокий, весь обросший, на ногах одни портянки.
Я думаю, ему лет семьдесят пять будет.»
« Ну не может быть, Родионок! Такого возраста в Советскую Армию не призывали. Просто человек отощал в немецком плену.
Ну а что вы им сказали?»
«Мы сказали, что одного, помоложе, можно принять. А старика - нельзя, ему надо где-либо устроиться в деревне, а немцы его по старости не тронут.»
«А он что сказал на это?»
« Ой, товарищ комиссар, и не рады, что так сказали! Такой вредный и ершистый старик, что не дай Боже! Как заорет на нас, так мы, прямо говорю, струсили, а голос-то ведь совсем молодой…»
« Что он вам сказал?»
« Говорит, довольно играть с нами! Уже четыре месяца, как мы бежали из плена. Жили все время в лесу, в норе, ели корни дерева, ни разу не мылись в бане, раз пять встречали партизан, а нам все отказывали в приеме! Немцы три раза делали облаву…
Вас, говорит, молокососов, еще в проекте не было, а я уже дрался за советскую власть, мне говорит, не семьдесят пять лет, а ровно пятьдесят и рано еще вам меня хоронить! Да и не вам меня хоронить. Дай-ка, говорит, руку!»
«Я подал ему руку, товарищ комиссар, так он сук… , ну этот самый старик, как тиснул мне руку, так я белого свету не взвидел. Как железными клешнями тиснул.»
« Мои руки, - говорит он, - за 50 лет жизни построили целые улицы в городах, распахали сотни гектаров земли.»
А потом говорит нам:
«Почему у вас винтовки без штыков?»
Мы говорим:
« В лесу штыки мешают!»
Он говорит:
« Глупости, воевать надо не в лесу, а там где враги есть. А знаете ли вы, что винтовки пристреляны со штыком, а без штыка пуля пойдет вправо?»
« Потом, товарищ комиссар, этот вредный старик говорит: « Иди и доложи своему комиссару. Или вы нас примете в отряд, или вы не партизаны, а трусы. Сохраняете шкуру, отсиживаясь в лесах.». Так и сказал, товарищ комиссар.»
«Гм.., - нахмурился комиссар, - по-видимому, интересный старик.»
Подошел командир отряда, и комиссар рассказал ему, в чем дело.
Подумав немного, командир сказал:
«Возьмем их, Петр Игнатьевич! Если старик в самом деле хилый, то устроим где-либо в деревне, возьмем под контроль, никуда не денется.»
«Веди их!» – кивнул комиссар Родионку.
И вот перед комиссаром стоят два пожилых бойца, познавшие всю тяжесть и ужас Ржевского котла. Попавшие в плен к фашисту, но не сломившиеся. Бежавшие из плена, немыслимо страшно зимовавшие в лесу и, наконец, нашедшие партизанский отряд!
Того, помоложе, звали Козлов Михаил Петрович, бывший старший бухгалтер районной конторы, заготавливал молоко на Урале. Оборванный, грязный, обросший, худой, но коренастый и крепкий.
Комиссар взглянул на «вредного старика» и боль тиснула сердце. Да! Перед ним был седой старик, долговязый и худой как палка, глаза заросли длинными бровями и смотрели на комиссара сурово, но живо. Комиссар сразу убедился, что перед ним не старый и дряхлый человек, а изможденный невзгодами, но сильный духом боец.
Вместо расспросов, комиссар обратился к поварихе Маше, жалостно смотревшей на бежавших из немецкой смертной неволи.
«Маша! Покорми чем-нибудь товарищей!»
Через несколько минут оба "новеньких" с жадностью ели вкусный черный хлеб с жирным мясным супом, потом ели пюре и даже котлеты, которые Маша приготовила для комиссара и командира отряда.
Партизанам сильно хотелось подойти посмотреть, поговорить с вновь прибывшим, но из чувства такта они не делали этого, пусть голодные люди наедятся и придут в себя.
Действительно, оба старика «постарались» над котелком и как-то оба «оттаяли». А когда, пообедав, закурили хорошей самосадной махорки, то суровые глаза старика и черты его лица стали мягче, человечнее.
«Привада!» – позвал комиссар молодого, белокурого, стройного, довольно приятного на лицо партизана.
- Возьми вот этих двух товарищей к себе во взвод и приведи их в «божеский» вид.
«Пошли со мной, товарищи!» – обратился Привада к новичкам.
Через несколько минут «вредный старик», как его называл Родионок, был в центре внимания всего второго взвода Андрея Привады.
Почти весь взвод состоял из белорусских ребят. Старше двадцати восьми лет было всего два человека: отделенный Купневский и сапожник Шаповалов.
Белорусы любят и почитают мать-отца, а те в свою очередь - очень нежные родители. Белорусы также любят и уважают «россиян», так они называют русских братьев.
Старика подстригли, побрили, один достал из мешка хорошие немецкие ботинки, другой пару белья, третий новые суконные брюки, снятые с убитого финна, дали почти новую суконную гимнастерку, простреленную автоматной очередью – в грудь "на вылет".
Старик нагрел ведро воды у костра, недалеко был хороший водоем. Оба вновь вступившие в отряд помылись и, действительно, оба сразу приняли «божеский вид».
Старик оказался членом партии с 1931 года, был взят в Советскую Армию с партийной работы, был завотделом пропаганды и агитации райкома, имел образование, хорошо начитан. Попал он в плен к немцам в конце июля 1942 года раненый, истекший кровью и сильно оглушенный, контуженный в голову. Едва оправившись от ранения, он бежал из лагеря военнопленных вместе с товарищем. Четыре месяца скитались по лесам, голодали, рана снова открылась и гноилась.
Долго ночью у костра слушали партизаны рассказ «ученого старика» о России. Непоколебимой верой в силу Советского народа была пронизана его речь, она пленила и зажигала сердца партизан священной ненавистью к врагам.
Кличка «ученый старик» так и осталась за ним весь его дальнейший путь:
- рядовой партизан,
- пропагандист Шкловского райкома партии,
- оперуполномоченный отряда,
- комиссар отряда.
Ни один партизан (не только в отряде, но и в бригаде) не мог с ним равняться в выносливости в походах. Тяжелый труд тридцати лет закалил это организм как гибкую сталь. Он в одиночку мог тащить на себе через белорусские топи станковый пулемёт.
Его товарищ, Козлов М.П., пошел в группу молодых ребят, комсомольцев – подрывников: «Будет нам дедок обед готовить, нашим, так сказать, завхозом», - говорили ребята.
«Видите ли, ребята, я уже можно сказать полгода был на девяносто девять процентов в могиле, - серьезно отвечал бывший бухгалтер, - а с вами как буду?»
«С нами ты будешь в могиле процентов на пятьдесят, не более», – утешали комсомольцы.
Козлов оказался незаменимым товарищем. Прекрасно ориентировался ночью, а это очень важно для подрывников. Был храбр и решителен, в деле его считали составной частью боевой группы. Ни одна операция не проходила без его участия.
Кроме того, он оказался неутомимым изобретателем по части различных партизанских сюрпризов немцам. Он не давал «комсе» ни отдыха, ни сроку.
Он ввёл среди ребят лозунг:
«Немцам не хочется умирать - надо помочь им умереть».
Когда "вредный", а теперь - «ученый старик», будучи оперуполномоченным отряда спросил подрывников, с которыми был его товарищ по скитаниям, как им нравится Козлов Михаил Петрович, комсомольцы смеялись, ответили: с этим твоим Козловым, когда находишься на девяносто девять процентов в могиле всегда он этот оставшийся процент находит! И все живы!
Глава 2. Пускать фашистские эшелоны под откос!
...Партизанская группа подрывников энского отряда уже больше месяца жила в лесу, километрах в 15-20 от железной дороги Орша – Могилев. Из шести человек состава группы пятеро были комсомольцы.
Командиром подрывной группы был Агатов Алексей Алексеевич, окончил семилетку, бригадир в колхозе. Был заброшен с «большой земли» в тыл врага для организации партизанского движения.
Политически Алексей был подготовлен неплохо для комсомольца, вожака колхозной молодежи. Он был силен, крепок, широк в плечах, настоящий волгарь. «Красивый россиянин» - называли его белорусы. Говорил Алексей мало, не торопясь, никогда не ругался, был вежлив в обращении с товарищами. Его сильно любило местное население и все звали этого молодого комсомольца за его скромность и степенность по имени-отчеству – Алексей Алексеевич. Комсомольцы его группы шли за ним в огонь и в воду. Случалось, Алексей иногда выпивал, тогда он становился веселым, оживленным, чудно пел саратовские частушки и плясал лихо и ловко «русского».
В его песнях и припевах перед каждым вставала могучая, необъятная широта и красота нашей Родины. Величавая ширь и глубь красавицы Волги, живописные, овеянные романтикой былого, события. Как звучала из его уст песня «Из-за острова, на стрежень…». Любили песни Алексея и партизаны с «большой земли», и белорусы.
Весельчаком в комсомольской группе был Андрей Ловко. Хорошо играл на гитаре и сочинял уморительные частушки про Гитлера, Риббентропа и других немецких офицеров. Ломко окончил 10 классов и хорошо знал немецкий язык.
Третий комсомолец, Янек Шустак, был богатырского сложения и страшной силы парень. Немцы в Минске расстреляли всю его семью – отца, мать, брата и сестру. Рассказывали, что при разгроме немецкого гарнизона, Янек, взяв в плен гитлеровцев, хватал их в обе руки, высоко поднимал в воздух и со всего размаха бросал головой вниз на каменное полотно шоссе. Немало пришлось поработать комиссару, чтобы отучить Янека от необузданных порывов мести.
Четвертым в группе Алексея был комсомолец Миша Савчук, бежавший еле живой из немецкого концлагеря. Был он упорен в бою, надежен и смел. Один раз он зимой километра два босой бежал за удиравшим немцем. Догнал и пристрелил.
Но любимцем всей группы был самый юный комсомолец - Василек Озоренок. Ему было всего семнадцать лет, морально чистый, веселый, жизнерадостный, безумно храбрый, этот юноша воплощал в себе все черты ленинского орлиного племени комсомола.
Не один эшелон противника спустила группа Алексея под откос. Под обломками вагонов нашли себе могилу тысяча четыреста гитлеровских мерзавцев.
Группой была уничтожена масса техники врага. В конце концов, немцы рассвирепели от таких потерь! Ведь таких групп, как группа Алексея, в Белоруссии действовали сотни!
Гитлеровские военные власти снабдили придорожную полосу различным фашистским сбродом: лесными финнами, марокканскими каторжниками, собаками с ошейниками. Настроили у железных дорог укрепленные гарнизоны с артиллерией и минометами. Жестокий террор обрушился на население Белоруссии. За связи с партизанами белорусских патриотов вешали, зарывали живыми в землю!
День и ночь по железнодорожной линии ходили немецкие патрули, шквальным огнем автоматов обстреливали каждый кустик и бугорок. Ночью освещали местность ракетами, дорожки, тропинки на путях к «железке» стерегли засады босых марокканцев, которым за каждого убитого партизана давали деньги и месяц отпуска.
Впереди паровоза немцы стали пускать одну-две пустые платформы.
Три раза уже ходила группа Алексея к «железке» и всё безрезультатно. Два раза заложенные мины снимали немецкие патрули. Одна мина взорвалась, но разбила только передовую пустую платформу. Немцы поезда вели тихим ходом, и взрыв поезда не повредил.
Всякий раз храбрецам приходилось выходить из положения, о котором Козлов говорил: «на девяносто девять процентов были в могиле».
Вслед уходившим партизанам взвивались ослепительно белого цвета ракеты, глухо ухали гарнизонные пушки немцев. Стреляли немцы, куда попало. От взрывов снарядов и мин в окрестных деревнях звенели стекла в окнах. Тоскливо сжимались сердца белорусских девушек, далеко не равнодушных к молодым партизанам.
«Божечки милый! Как полыхает и гукает у железки, вернутся ли?». Старушки, вставая с постели, и открыв окна, крестили ночной мрак и молились о «спасении рабов Божьих».
«Комса» возвращалась в свое лесное гнездо. Сутки спали мертвецким сном. И сутки бодрствовал Козлов. Караулил.
Вставали, мыли изорванные икры ног, ссадины, ушибы, а потом опять шли… Группа подрывников имела агентурную разведку, без этого нельзя было жить и одного дня.
Глава 3. И погиб Василёк, прощай, молодая любовь...
В соседней деревне у юного Озоренка была знакомая по школе, девушка Маруся, которая хорошо овладела искусством разведки и снабжала данными группу подрывников. Сегодня Озоренок попросил у командира партизанского отряда, Алексея, разрешения сходить в деревню к связной Марусе. Алексей улыбнулся и разрешил, он давно знал, что Озоренок и Маруся любят друг друга чистой юношеской любовью. Маруся с радостью встретила молодого партизана, она ждала его давно.
«Василёк, - шептала Маруся, - сегодня в деревню пришел какой-то подозрительный старик. В дубленом овчинном полушубке, в лаптях, с уздечкой в руках, говорит, лошадь потерялась, так он её ищет. Главное, что меня смущает, так это - стриженая у него голова! А ведь наши старики всегда носят длинные волосы!» Глаза Василька сразу загорелись любопытством.
« Где этот старик? Идем, Маруся.»
Старик сидел за столом у колхозного бригадира Фадея и с аппетитом ел горячую картошку, уздечка лежала возле него на лавке.
« Разрешите Вас спросить? Вы из какой деревне будете?» - начал вежливо Василек.
« Из села Раского, молодец», - слегка улыбаясь, ответил старик.
« Из Раского, - обрадовался Василек, - а как там живет горбатый Яков Иванович?»
«Ничего»,- слегка замявшись, ответил старик.
«Мучила его лихорадка, а теперь поправился, огород весь засадил, яровые посеял.»
Глаза Озоренка весело засверкали.
«Первый раз слышу, что мертвые могут лихорадкой болеть, огороды садить и яровые сеять.»
«Могут, молодец, могут. Мертвые могут и болеть, и выздоравливать, и даже воевать, а потом опять умирать», - весело сверкая глазами, ответил старик.
«Вот недавно я получил письмо из дому. Так жена сообщает мне, что ей давно прислали известие о моей смерти, а ты видишь, я живой и тебя я знаю, кто ты такой. Ты - Озоренок Василек.»
Василек в изумлении выпучил глаза на старика…
« Постой, ты кто такой, старик?»
« Я не просто старик, я «ученый старик», передай привет Михаилу Петровичу, всем передай.»
Василек порывисто бросился вперед и обнял старика. Маруся разочарованно смотрела на эту сцену. Потом вышли Василек и старик из хаты, легли на лужайку в небольшом садике и Василек все рассказал «ученому старику» о своих неудачах.
« Вот что, - начал старик, - я выполнил задание, оставаться долго с вами не могу, а ты передай Алексею, что к нам в отряд прислали опытного человека подрывного дела товарища Ключ. С Урала прислала его челябинская партийная организация, он сейчас как раз в Раскино, не у того Горбатого, на котором я попался тебе, у другого, Мокса. Мне кажется, в ваших неудачах во многом виноват взрывной механизм мины. Вы ставите мину шомполом и его видно. Вот почему патрули снимают ваши мины. Кроме того, шомпол мины пригибается специально приспособленной доской пустых платформ, идущих впереди паровоза, и мина взрывается, не повредив паровоза. Идите в Раское, Ключ настроит вам мину нажимного действия. Причем, он такой виртуоз в этом деле, что его мина взорвется только под тяжестью паровоза.»
Прохладны влажные весенние ночи в Белоруссии. Седые туманы стелются по низинам рек, оврагов. Большое обилие топких зыбучих болот. Тучи комаров и мошкары ослепляют глаза, забираются в нос, уши. Словом, большую надо привычку, чтобы сохранять спокойствие в такой обстановке.
Группа подрывников, под командой Алексея, темной глухой ночью пробирались в сторону «железки» с новой миной, которой снабдил их уральский большевик, товарищ Ключ. Мина была почти в два раза сильнее прежней, нажимного действия, но чтобы поставить такую мину, надо порядочно времени.
Шли партизаны гуськом, то есть длинной цепочкой метрах в шести друг от друга, так всегда ходили партизаны.
Во-первых, меньше будет потерь, если враг где-либо откроет огонь из засады.
Во-вторых, ложась, партизаны сразу образуют цепь на любую сторону.
Через час ходьбы останавливались где-либо в укромном местечке и осторожно курили, уткнув самокрутку в рукав. Потом опять шли, разговаривать строго запрещено.
На этот раз партизаны решили перейти линию железной дороги, углубиться на ту сторону, километра на два повернув налево. Дойти до болота и по кромке болота под прямым углом опять повернуть налево. Дойти до железной дороги, залечь в болотных камышах и заложить мину при выходе железной дороги из выемки на болото.
Та сторона дороги, к которой подходили партизаны, была лесной, а другая сторона - степной. Партизаны всегда подходили с лесной стороны и уходили на лесную сторону.
Но группа Алексея для закладки мины на этот раз решила подойти с противоположной, степной стороны, где меньше было опасности встретить немцев.
Погода благоприятствовала партизанам, небо было покрыто тучами, шел мелкий дождичек, и весенняя ночь была темна как могила. Не дойдя до железной дороги по кромке болота метров четыреста, партизаны залегли. На разведку к полотну пополз Ломко. Скоро он вернулся обратно и сообщил, что у железной дороги никого нет.
« Янек и Озорёнок, пойдем со мной ставить мину», - распорядился Алексей.
«Козлов, оставайся здесь и охраняй с тыла.»
«Ломко, бегом по полотну на болото, заляг с бесшумкой в болото и бей, если немцы пойдут в нашу сторону.»
-«Савчук, иди охраняй нас с левой стороны, когда мина будет поставлена.
Пять раз крякнет утка в болоте, тогда идите к нам все.»
Алексей и Янек ставили мину под железнодорожную рельсу. Озорёнок относил в подоле рубахи землю и ссыпал ее в болото поблизости, в густые камыши.
Наконец мина поставлена, следы копки тщательно засыпаны снова гравием и пять раз подряд Василёк крякнул уткой. Подошли сторожившие партизаны и, по распоряжению Алексея, все залегли в камыши, недалеко от того места, где была заложена мина.
«Если пойдет немецкий патруль и заметит «нашу работу», - распоряжался Алексей, - бить из автоматов на уничтожение. Если не заметят мины, не стрелять.»
Алексей взглянул на ручные часы со светившимся циферблатом. Было половина двенадцатого, и далеко у разъезда №8 завыл паровозный гудок. Шел вражеский эшелон.
Вдруг, на полотне железной дороги через болото блеснул яркий белый свет электрического ручного фонаря. Навстречу идущему поезду шел немецкий патруль. Патруль был из двух немцев и одного русского полицейского, проводника, по-видимому.
Партизаны сжали в руках автоматы, направили их в сторону полотна и затаили дыхание…
Вот уже патруль у того места, где заложена мина.
«Заметят»,- с тоской думает каждый...
Вдруг, о счастье!
Фонарик отказал! Перестал светить, и пока другой немец достал и включил свой фонарик, рубеж, где была мина, уже был позади.
Все облегченно вздохнули, но радоваться было рано.
Патруль уже ушел дальше метров на двести, когда на полотне железной дороги засопела немецкая овчарка. В своем усердии она, обнюхивая обочины дороги, отстала от патруля.
Теперь собака напала на след Ломко в том месте, где он охранял правый фланг минёров. Овчарка жадно потянула носом воздух и направилась по следу, туда, где лежали партизаны. Ночь мешала видеть собаку, но по её сопению, партизаны безошибочно определяли её поведение и намерения.
Ломко был вооружен винтовкой с бесшумной дульной накладкой. Быстро всё сообразив, он кинулся навстречу собаке. Приемы немецкой овчарки несложны, она идет по следу своей жертвы молча, чтобы не пугать. И когда ее отделяет от жертвы только один прыжок, она взвизгивает. Преследуемый оборачивается на визг, собака бросается ему на грудь, хватает зубами за горло, но не рвет, а душит мертвой хваткой.
На этот раз обстановка для собаки получилась совершенно иная. Жертва сама ринулась навстречу преследователю. Собака оторопела и встала, мгновение для прыжка было упущено. Сверкающие в темноте глаза собаки встретились с не менее сверкающими глазами человека!
Не теряя ни мгновения, Ломко выстрелил в пылающие зрачки врага. Бесшумка хлопнула как стручок гороха, раздавленный ногой, а овчарка забилась в судорогах смерти. Ломко облегченно вздохнул.
Тяжелым вздохом загудели рельсы, ночная тишь наполнилась раскатами грохота, поезд мчался к «месту своего назначения». Было двенадцать часов ночи. Поезд шел без огней, немцы спали... что снилась в эти минуты «завоевателям Европы»?
«Гады! - злобно прошептал Янек, - не уйдете…»
Поезд подходил все ближе и ближе, яркий блеск огненных глаз паровоза осветил то место, где его ждала партизанская мина.
Партизаны закрыли глаза, их сердца замерли в страшном торжественном ожидании...
Огромный огненный столб высоко поднялся в темноте, озарив ночное небо и окрестности страшным багровым заревом. От сильного взрыва земля заколебалась под залегшими партизанами. Поднятые силою взрыва высоко в небо песок и щебень градом посыпались на смельчаков.
Громовой раскат взрыва волнами распространялся по окрестным полям, лесам, деревням, оповещая, что жива Беларусь! И мстит она немецким оккупантам.
Кровь за кровь и смерть за смерть!
Силою взрыва разбило в куски паровоз! Далеко разбросало рельсы и шпалы. На одно мгновение поезд, казалось, остановится... Но вдруг, в стремительном беге страшной силой энергии и тяжести, ринулся состав под откос, в пучину болота. В визге и грохоте вагоны громоздились друг на друга, лопались как мыльные пузыри, превращаясь в груды обломков. Машины и танки врага прыгали с платформ в болото. Орудийные стволы танков торчали как хоботы утонувших в болоте слонов.
Снова последовал взрыв, и сплошное море огня и дыма покрыло место катастрофы. Это взорвались цистерны! Струи пылающего бензина пожирали все на своём пути.
Воздух наполнился смрадом горящих трупов врага. Дикие вопли, стоны, предсмертные хрипения раздавленных, сожженных заживо, наполнили сердца отважных партизан огнем удовлетворения священной мести и гордостью за дело рук своих.
«Смерть фашистским гадам!» – сильным голосом гремел Савчук.
И они, вместе с пламенным Озорёнком, открыли яростный огонь из автоматов по гибнувшему эшелону.
« Прекратить огонь!» - кричал Алексей!
«Не тратить патроны! Сдохнут без нас, фашистские гады! Ко мне! Козлов, веди! Бегом марш!»
И партизаны, что было сил, кинулись бежать в лес на другую строну дороги.
Обгоревшие трупы немецких солдат, погибших при взрыве эшелона, хоронили потом на отдельном немецком кладбище. Хоронили ночью полицаи. Немцев не допускали, дабы не смущать дух солдат "немецкой непобедимой армии".
Поставленный немцами кладбищенским сторожем Гаврилович был в прошлом и в настоящем горьким пьяницей. Он усердно помогал в похоронах и получил за это бутылку шнапса. Напившись, как же он бормотал, улыбаясь пьяной улыбкой: « И возить бы вам, не перевозить, таскать, не перетаскать!». Затем он стал незаметно снимать наиболее хорошие брюки с убитых, причитывая: «На что они вам, штаны и рубашки, милые папочки, господь Бог и так вас примет в царствие немецкое, и так примет…».
Было похоронено двести пятьдесят четыре трупа.
Группа Алексея благополучно миновала наиболее опасные места и подходила уже к небольшому лесу по другую сторону Шклова.
Взбешенный враг в безумной злобе теперь уже неистовствовал позади. Глухо ухали пушки Шкловского гарнизона, снаряды рвались, где попало, немцы вели бесприцельный огонь, ослепительные ракеты бороздили небо, появились даже самолеты с Оршинского аэродрома, кидали бомбы и мины, обстреливали землю из пулеметов.
Обратившись к товарищам, Козлов улыбнулся:
«С каким почетом нас провожают, ребята, на свадьбе моей так не было! Ну, я думаю, мы теперь на восемьдесят процентов в безопасности.»
Рано успокоился Козлов. Напрасно он свернул на заброшенную лесную дорожку. Впереди чуть слышно хрустнул сломанный прелый сук… Мгновенно партизаны залегли, только молодой Василёк остался стоять, пытливым взором осматривая кусты впереди себя.
И это мгновение было смертельным для юноши.
В упор по партизану загремели винтовочные выстрелы вражеской засады. С тихим стоном, как подрезанный колос, опустился на землю молодой партизан.
Товарищи открыли сильный огонь из автоматов по засевшему впереди противнику.
Ломко быстро отстегнул гранату и бросил в сторону врага. От взрыва гранаты раскатами гудел разбуженный лес. Трусливый враг не ожидал такого отпора и кинулся удирать, оставив одного убитого и одного смертельно раненого гитлеровца.
Партизаны бросились к сраженному товарищу:
«Василёк, милый, что с тобой? Куда ранен?»
Юноша молчал, тяжело дыша. Могучий Янек бережно как ребенка поднял раненного, пробежал метров триста до густого леса и тихо опустил на землю под большой развесистой елью. Наклонившись, в темноте партизаны рассматривали, куда ранен их товарищ...
И вдруг с ужасом отвели глаза!
… На земле они увидели волочившиеся внутренности несчастного товарища. Разрывная пуля разворотила живот, и ладонями рук юноша пытался удержать их от выпадения. Мертвая бледность покрыла молодое прекрасное лицо. Когда-то полные жизни и молодого задора глаза покрылись тусклой пеленой неимоверной боли и муки.
Собрав остаток сил, раненый тихо, отрывисто заговорил:
«Что же вы стоите! Уходите! Враги вернутся, берегите себя для дела… уходите! Я требую – слышите!»
Алексей склонился к умирающему, тихо и твердо промолвил:
«Мы тебя не можем бросить, Василёк! Перевяжем и понесем… Слышишь, ты будешь жить!»
«Не можете оставить? Так я вам помогу.»
Никто не заметил, как умирающий опустил одну руку в карман брюк, достал маленький трофейный пистолет и тихо промолвил:
«Не говорите маме, что я… я умер… потом… скажите… потом… , что я умер за свой народ, за Родину, за Советскую власть… .»
Василек резко вскинул правую руку и выстрелил себе в висок, отбросил руку с пистолетом в сторону. И замолк навсегда.
Обнажив головы, молча, стояли боевые друзья вокруг тела любимого товарища и слезы текли из глаз их на суровые лица.
Вечная слава тебе, юный герой, отдавший молодую жизнь за Советскую Родину. Долго будут помнить тебя молодые и старые друзья, и боевые товарищи.
Долго еще твоя мама будет спрашивать проходящих через ее деревню партизан: «жив ли, здоров ли ее сынок». Скажут ей партизаны, что жив ее Василёк и вечно будет жить.
Скоро узнает о смерти Василька его любимая боевая подруга Маруся. Горько, горько зарыдает она, и долго с тоской будет смотреть в ту сторону, где погиб ее милый.
Пройдут годы, зарастет глубокая сердечная рана бедной девушки. Много прекрасных юношей в нашей стране, и найдет ее сердце другого. Но и тогда, когда она будет растить своих сыновей, лаская их, она будет шептать:
«Растите и будьте такими, каким был Василёк, любите также свою Родину, свой народ, как любил Василёк. Так же храбры и мужественны будьте, каким был он, Озорёнок Василёк!»
Весной с сосен, растущих над бывшими окопами, льются прозрачные слёзы смолы...
Трепещут горькие осинки.
Они страшатся новых битв.
Смолу как слёзы льют хвоинки
Над теми, кто в земле лежит.
Глава 4.Тяжёлый разговор с бабкой Агриппиной.
...На следующую ночь разразилась бурная весенняя гроза. Яростные раскаты грома гремели победным салютом наступающему лету. Сильный ветер, как тростинки, гнул могучие ели и сосны. Сухие деревья, много видевшие на своём веку ветров и гроз, не выдерживали бешеного натиска весенней бури, с треском ломались и падали на землю. И тогда лес гудел глухой пушечной пальбой. Дождь хлестал как из прорвавшейся плотины, покрывая шумом водопада разбушевавшийся лес.
Группа подрывников, добравшись до своего лагеря, спала мертвым сном. Напряженные до крайней степени нервы, мускулы и всё тело властно требовали сна и отдыха. Хорошо и уютно в партизанском шалаше из плотной коры столетних елей, никакой дождь не промочит, при какой угодно буре внизу полное затишье, лишь время от времени легкий ветерок, оторвавшийся от бушевавшей вверху бури, промчится понизу... И снова затишье. Ни один враг не рискнет выйти в такую ночь из своего логова.
«Можно спать спокойно, на все сто процентов», - думал дежуривший в эту ночь Козлов и перед рассветом тоже крепко заснул.
Проснулся он скоро, было уже светло, гроза прошла, буря утихла и в лесу стала торжественная тишина. Ни звука, ни шелеста в храме природы. Напоённая досыта весенним дождем земля дышала запахом лесных испарений. Взошло солнце. Умытый лес животворным смолистым запахом бодрил отдохнувшие за ночь нервы и тело.
Козлов блаженно улыбнулся, потянулся всем телом, вздыхая полной грудью благодатный лесной воздух.
«Какая благодать! Как хорошо жить», - тихо промолвил он, и ему вспомнилась его родная сторона, широкие просторы курганских степей с тучными плодородными чернозёмами. Шумят и гудят трактора в степях, скрипят колхозные телеги, подвозя воду, горючее, зерно для посева.
«Эх! Теперь вовсю идет посевная, люди посеяли процентов шестьдесят - семьдесят, когда-то мы вернемся к мирному труду? И суждено ли нам вернуться?»
«Что день грядущий нам готовит!» – вслух продекламировал Козлов и принялся готовить завтрак для спящих товарищей.
Он принес воды, умылся, развел огонек, начистил картошки, нарезал тонкими ломтиками мясо и заварил жирный вкусный суп. Приготовил картофельное пюре с салом.
Партизаны при возможности любили хорошо и вкусно покушать, зная, что не всегда придётся, а силы и здоровье требуются всегда, иначе не боец будешь.
Солнце уже высоко поднялось над лесом, когда проснулись остальные товарищи Козлова. Партизаны умылись, достали бритву, прикрепили кусочек зеркала на деревянный сук и по очереди побрились. Сытно позавтракав, каждый занялся своим делом: чистили, смазывали оружие, оттачивали поясные ножи, чинили изорванную одежду.
Только командир группы подрывников, Алексей, чувствовал себя скверно. Смерть Озоренка, которого он сильно любил, лишила его обычного равновесия, ему хотелось чем-то сильно встряхнуться, забыться на мгновение...
«Надо выпить», - решил он и направился в деревню, сказав товарищам, чтобы никуда не уходили, что он скоро придет обратно.
Придя в деревню и убедившись, что все в порядке, то есть, немцев нет, Алексей направился к знакомой бабке Агриппине. Сварливая и бурная была бабка Агриппина. Острая и злая на язык. Иногда такое наговорит, что Алексей угрожающе предупреждал:
«Антисоветчину ты говоришь бабка! И если бы я не знал, что у тебя три сына в Советской Армии, а ты была первой ударницей в колхозе, я мог бы тебя «к стенке приставить».
Хата бабки Агриппины была невысока, крыта соломой, с маленькими окнами и широкими простенками. Пол в хате бережно постлан и всегда чисто вымыт. Печь невероятно большая, стол покрыт белой скатертью, а «божница» увешена белыми искусно вышитыми полотенцами, на левой стороне хаты – чисто и опрятно убранная кровать. Двери из избы выходили в широкие сени с крылечком на улицу и дверью на двор к хлевам и скотскому пригону.
«Здравствуй, бабушка!» – промолвил Алексей, входя в хату.
«Здравствуй!» – бросила бабка Агриппина, не поворачивая головы.
Стояла она на коленях на полу и усердно отбирала картофель для посадки. Бабка была сильно не в духе. Соседи уже давно посадили «бульбу», а у нее и огород еще не вскопан. Лошадей в деревне всего осталось три на все сорок дворов. Здоровые бабы и мужики вскопали огород лопатами, а бабка уже не в силах была выполнять такую тяжелую работу, растеряла она свою силу, вдовая более двадцати лет с тремя сыновьями и двумя дочерьми. Теперь осталась она одна одинёшенька.
« Как здоровье, бабушка? Как самочувствие и что поделываешь?»
Многословье Алексея бабке сразу не понравилось, она повернула голову и пытливо взглянула на Алексея.
«Что наша жизнь, мука одна, а не жизнь. Придется, по-видимому, издыхать с голоду! Хлеба нет, еще осенью немцы забрали. Картошку бы надо давно сажать, да чем землю пахать? Лошади нет, тоже немцы забрали! Да и вы на наших же лошадях разъезжаете. Лопатой копать - нет сил. Молочка и то уже два года во рту не было – коров-то тоже немцы позабирали!
«Вот нашла о чем горевать бабушка, мы не сеем и не жнем, а весело живем, не горюем, а воюем!»
Старался развеселить Алексей бабку, но шутка пришлась сильно не по месту.
Этого было достаточно, чтобы скверное настроение бабки Агриппины ярко прорвалось наружу, а ее злой язык понес «антисоветчину».
« Что сказал: не сеем и не жнем! Да чем вы все живёте? Кто вас кормит? Кто одевает? Кто вас в бане моет? Кто вас охраняет от немцев и полицаев? Мы ведь, всё мы! Без нас вы бы пропали, немцы бы вас переловили как курей слепых!»
Алексей понял, что сказал не то. Да уж было поздно. Он попытался утихомирить бабку.
« Мы питаемся за счет немецких обозов, которые отбиваем!»
« Что? Каждый день вы отбиваете обозы? Сами-то иной раз еле ноги уносите. Вот тебе - "и не сеем, и не жнем"! Хорошо бы я не сеяла и не жала! Нацепила бы твою сковородку себе на брюхо и ходила – я герой! Я партизан!»
И бабка, выпятив живот и подхватив руками бедра, прошла по комнате перед Алексеем. Алексей, не в первый раз видя выходки со стороны бабки Агриппины, не растерялся.
«Ну, уж ты зря шумишь и разоряешься! Ну, берем у вас! Но ведь мы вас защищаем!»
«Защитнички! – взвизгнула бабка, – здорово вы нас защитили! Кто драпал в сорок первом году от немцев из Белоруссии, кто нас оставил на растерзание и разорение?
Божечки мой! Что только было: пехота бежит, артиллерия скачет, конница топает. Как подумаю… От кого вы бежите, такие сильные, молодые, вооруженные?
А потом пришли немцы! Едут на машинах, веселые, пьяные, по пояс голые, загорают на нашем солнце, гогочут, песни поют, радио на машинах и повозках играет. Им весело, а для нас, хуже похоронного марша. В одной руке колбасу ест, в другой губную гармошку держит, вшивые, грязные. Кричат нам: «Лус! Москау капут! Москау капут!».
«Божечки милый! - думаем, - от кого вы бежите, наши солдатики? От такого вшивого барахла бежите! Почему так получилось, а? Почему? Скажи, почему? Да потому, что не знали мы немцев, считали их людьми, злобы у нас мало было против немцев.»
Алексей растерялся.
«А ты знаешь, бабка, за такие речи…да знаешь ли ты, какие мы дела делаем.»
«Ай, не говори ты мне, Алексей, подумаешь, герой. Взрываете, взрываете эшелоны, а немцев всё не убывает, всё ещё они на нашей земле. Расхвастался своим геройством!»
«Ты бы лучше нашел где-либо лошадь, да помог огород вспахать, «бульбу» садить надо, время уходит.»
Возбуждение бабки Агриппины как-то так улеглось, и безысходная нужда тискала сердце.
Посадить «бульбу» для бабки было самое главное, «альфа и омега её жизни». Будет посажена её «бульбочка», будет она расти, будет жить и бабка Агриппина, будет в ней расти надежда на жизнь.
А жить ей нужно для того, чтобы встретить своих сыновей, которые где-то там, далеко-далеко вместе с миллионами других советских людей пробивают тяжелую дорогу победе, дорогу на запад, на освобождение родной Белоруссии.
Встретить своих соколов, прижать их к горячему и страдавшему сердцу, омыть слезами радости их огрубелые в боях и невзгодах лица. Встреть сынов, значит, встретить радость освобождения и счастья свободного труда, насладиться гибелью ненавистного врага, который покрал, растоптал все, для чего живут, трудятся, страдают, учатся и думают люди, а для этого надо жить, бороться и ждать.
А чтобы жить, бороться и ждать, надо для этого садить «бульбочку», кормиться самой, кормить партизан, которые отсюда с тыла врага облегчают страдный путь наступления Советской Армии на запад.
Жаль Алексею бабку, понимал он её грубую жестокую правду... И тогда он, как всегда, медленно и твердо проговорил:
«Лошадь я тебе приведу сегодня же вечером, свою. Приготовь однокопный плуг и борону. Я сам тебе вспашу огород, а ты будешь садить «бульбу».
Вскоре Алексей сидел за деревянным столом. Кружка стояла, была и сковородка с горячей вкусной яичницей со свиным салом. Нашелся и отличный черный хлеб. И, главное, то нашлось, из-за чего Алексей весь «огород городил», бутылка самогона, крепкого как спирт. Бабка сидела, принарядившись напротив Алексея, выпила две маленькие рюмочки самогона и заметно оживлялась. Алексей пил самогон из большого чайного стакана, крепкая водка разжигала его молодую горячую кровь. Шел мирный разговор.
«Лешка! – мягко говорила бабка, – ты уже не сердись, что я тебе наговорила, ведь так тяжело! Так тяжело на сердце. Разве мы живем… это ведь не жизнь, это медленная тягучая смерть. Каждую минуту жди, вот придут проклятые немцы, «матка яйки, матка масло»!
«Говорят они каким-то собачьим языком, по-нашему, да по-ихнему. Как-то осенью зашел ко мне один такой верзила, пьяный немного. Сел на лавку возле меня и лопочет чёрт знает что.
Я ему говорю:
- Все вы забрали у нас окаянные!
Он, знай, лопочет: «я, матка, я».
- Хлеб, - говорю, забрали, - бульбу забрали.
Он свое: «я, матка, я».
- Коровушек наших тоже забрали!
-«Я, матка, я».
- А которые и остались коровы, так яловые, хотят быков, а быков тоже вы забрали!
Он, знай, свое бормочет: «я матка, я».
- Кто же, - говорю ему, - коровушек будет доить?
А он опять: «я матка, я».
Алексей засмеялся на остроту бабки, а та продолжала:
«Знаешь, Алексей, когда я жила в колхозе, то никогда не думала и не видела, как мы хорошо живем, а всё было мало, всё чем-нибудь, да недовольны были.
Бывало, пошлют трактористам обед нести, и то сердились. Вот, думаем, жили без этих тракторов, а теперь трактористов корми, да еще и за трактор плати хлебом.
А теперь проснулась как-то недавно рано утром, и вдруг слышу, трактор гудит в поле, так обрадовалась, а потом опомнилась, ведь это немецкая машина идет... И так больно заныло сердце, что и не скажешь.
Придет бывало праздник Октябрьской революции, меня на торжественном собрании колхозников в президиум выбирали в первую очередь. Премию давали, хвалили за работу, а я сижу и думаю, вот я какая знатная стала - как панна раньше. Ребятишкам у нас в колхозе жилось хорошо, были ясли, детский садик, а как кормили их, свежее молоко, творог, масло. Росли ребятишки здоровые, краснощекие, толстые такие.
А теперь, Божечки милый, жалобно на них глядеть, худые, бледные, оборванные, не только молока, хлеба чистого, сколько уже не ели. Только «бульбочка» и спасает, немцы пока еще не добрались до нее. Как вспомнишь все это, так тяжело на сердце станет.
Только теперь каждый из нас увидел, что мы отдали проклятым немцам, а почему мы отдали, Алексей?
Потому, что не понимали, что мы теряем.
А если бы понимали, ни за что не отдали такую жизнь, лучше бы умереть всем до единого.
Вот только теперь озлобился наш народ по-настоящему на немцев. Теперь я начинаю верить, что не выдержит немец и побежит из Белоруссии!
Жили ведь мы в колхозе дружно, ругались только из-за работы, кто мало, кто плохо делал. А в беде никто никого не бросал!
Вот и я ведь выкормила своих сыновей и выучила, два офицерами стали, придут ли они, мои ясные соколы, увижу ли я их!»
Алексей утешал бабку, говорил, что скоро придет Советская Армия, а мы отсюда поможем ей. Бабка ласково смотрела на Алексея, он напоминал ей сыновей, такие же, как он, здоровые, молодые, только ростом были выше.
Вечером Алексей пахал и боронил бабкин огород, а бабка садила «бульбу».
Савчук и Янек Болдин лежали в секрете на окраинах деревни, охраняя труд пахаря...
Заключение к мемуарам моего деда.
«...Савчук и Янек Болдин лежали в секрете на окраинах деревни, охраняя труд пахаря...»
***
На этих строках мемуары моего деда обрываются. Он дожил до Великой победы, был награждён медалями и Орденом Красного Знамени.
После войны вернулся в родной Ирбит. И узнал о геройской гибели своего младшего брата Ивана под Львовом...
Генерал-майор Иван Павлович Пичугин погиб в бою во Львовской области 6 августа 1944 года и был похоронен во Львове на Холме Славы.
Был он награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно) и медалями.
Оплакал мой дед, Михаил Павлович, своего брата, поцеловал свою жену, мою бабушку Анастасию Амвросиевну, прижал к себе двух подросших за долгие пять лет войны сыновей...уж и не чаявших увидеть отца живым.
И продолжил работу в Ирбитском районном комитете партии в той же должности должности заведующего отделом пропаганды и агитации.
Потом он долго работал в Исполкоме...Выучились его два сына в Омском лесотехническом институте, стали инженерами-механиками. Мой отец, Николай, уехал работать в Свердловск на Уралмаш. А Вовка, младший, чей образ так часто вставал перед глазами отца в страшные минуты военных испытаний, вернулся жить с родителями в Ирбит. Туда, в их дом и жену привёл, пошли внучата...
Когда я была совсем ещё крохотным дошколёнком, меня родители отправили пожить в Ирбит - к деду и бабушке. И тогда узнала я и суровый уральский нрав и нежную уральскую преданность.
Дед Миша, как был коммунистом, так и остался до конца. Первой моей песней, выученной в детстве, был Интернационал. Дед водил меня "к коммунистам", как я тогда говорила, я залезала на табурет и пела старикам во весь голос.
Дед рассказывал мне на ночь одну и ту же уральскую сказку "Сума, дай мне ума"... Вот и заложились во мне основы мировоззрения и понимания путей добра и зла.
Он не был добреньким дедушкой. Он был великий человек. И величие его духа я чувствовала всегда.
Светлая память.
Настоящему советскому человеку.
Моему деду, Михаилу Павловичу Пичугину.
Как дальний маяк над глубинами моря
Всем путь указующе солнце встаёт.
Как белые брови морского прибоя,
Туманы седые над полем вразлёт...
И льются, играя, цвета перламутра.
И в волнах тумана встают миражи:
Далёкое детство, уральское утро,
И с дедушкой в лес мы идём по грибы.
Картины пригрезятся сладкою болью:
Под полог берёз на заре попадём,
Как вкусен грибок, припорошенный солью!
На прутике жарим его над костром.
Лесную науку серьезно, как в церкви,
Мой дед мне рассказывал, он вспоминал,
Как путь отыскал по нехоженым дебрям,
Как выжил в лесу, партизан как искал.
Как другом был лес, неподкупным и верным...
Такое величье сквозило в словах...
Хоть многое и не поняла я, наверно,
Но сердцем увидела правду в глазах.
Суровый и горький рассказ партизана
Ребёнку неполных пяти-то годков,
Под жаркое пламя костра средь тумана,
Не здесь ли все таинства жизни основ?.
https://cont.ws/@mamalama2021/2161566
Пичугин Михаил Павлович, мой родной дед. Заслуженный партизан Белоруссии. Не сохранилось ни одного снимка моего деда в юности (что не удивительно, он родился в дореволюционной деревне Урала), нет снимков его зрелых лет - он воевал и работал. Не до фотографий было.
Только когда выросли его дети и старший сын Коля (мой отец) увлёкся фотографией, только тогда и были отсняты и проявлены снимки моего деда Миши. Перед моими глазами теперь он такой, каким я его в детстве видела и знала. Моё преклонение перед ним, его мощной личностью, было больше простой любви маленькой внучки к очень пожилому деду. Я интуитивно чувствовала в нём груз пережитого и того, что не может уйти из памяти, что призывает бессонницу, что ожесточает речи. Но при всём этом, все, кто знал его, кто был рядом, знали и его справедливость, бесконечное терпение, и доброту к людям. Доброту и снисходительность человека, видевшего и пережившего многое.
Недавно среди бумаг моего дедушки, Пичугина Михаила Павловича, мы нашли и его мемуары, литературно обработанные его женой, моей бабушкой, Анастасией Амвросиевной, всю жизнь проработавшей учительницей. Старики ни разу не пробовали обнародовать свой литературный труд, понимая, что дедушка, не умея лгать или "обходить острые углы", написал то, что должно "вылежаться", прежде чем сможет достучаться до сердца читателя.
Сегодня, читая многочисленную аналитику или бравурные "реляции" о скорых и быстрых наших победах в возможной войне с "ожесточённым подранком", "бывшим" мировым "гегемоном"... невольно вспоминаешь строки мемуаров моего деда, описывающего подобное же время, но только сто лет назад…
Я предлагаю вам, читатели, вернуться назад, в 1940-41 годы.
Прочитайте.
Вспомните.
Или узнайте заново.
В текст мемуаров дедушки я буду вводить исторические справки и собственные стихи.
Ирина Николаевна Пичугина, внучка.
Скупые строки анкеты...
Место рождения: деревня Крутогорье, Санчурский р-н, Кировская область, РСФСР
Дата рождения: 1893 год
Национальность: Русский
Партизанский отряд: 25-й отдельный отряд (Якушко, И.А.) (Шкловская военно-оперативная группа)
Награды: медаль "Партизану Отечественной войны 2-ой степени" (1944г), орден Красной Звезды (вручён в 1948г).
Последняя должность: Комиссар отряда.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1. Начало Великой Отечественной войны. Призыв в армию.
Великая Отечественная война застала меня на работе в Ирбитском районном комитете ВКП(б)в должности заведующего отделом пропаганды и агитации.
В близкую возможность нападения на нашу страну фашистской Германии мы не верили. Не давала к этому повода и Советская пресса, партийные директивы, лекционная пропаганда.
Мне лично казалось, что мы, то есть СССР, занимаем выгодное нейтральное положение. Я был иногда в душе не прочь и позлорадствовать над судьбой несчастных, как мне тогда казалось, Англии и Франции:
« Вы отвергли наше предложение дать коллективный отпор агрессору, - мысленно обращался я к правящим кругам Франции и Англии ,-
вы проводили политику невмешательства и попустительства агрессору. Ну и пожинайте плоды вашей двурушнической политики».
В лекциях о международном положении тогда сверх меры выпячивалась наша военная и экономическая мощь, наше превосходство над фашистской Германией в военном отношении.
Это мне не нравилось. Я был участником Первой Мировой войны и видел, что из себя представляет немецкая военная машина.
Учитывая уроки Первой Мировой войны мне казалось удивительным наше спокойствие и беззаботность, наше легкое отношение к весьма солидным вооруженным силам фашистской Германии.
Это легкое отношение к противнику я видел и наблюдал также и со стороны офицеров Советской Армии, в том числе и своего младшего брата Ивана, который тогда был в звании майора. Мне казалось, что теперь, как никогда, Германия – это опасный враг.
21 июня 1941 года к нам прибыл лектор обкома ВКП(б), фамилию его не помню, с лекцией о международном положении. На этот раз произошёл последний разговор о взглядах лектора на международное положение СССР.
«Как вы думаете, - обратился я к лектору, – не нарушат ли немцы договор о ненападении? Не обрушат они на нас всю машину войны?»
«Что вы, разве это можно! Гитлер не будет воевать с нами, пока не покончит с Англией.»
«Но, а когда покончит?» – говорил я.
«О, тогда мы грянем и как буря сметем все фашистские и империалистические силы Европы. Силы наших врагов тают, а наши силы возрастают!»
«Твоими бы устами, да мед пить», – подумал я.
Утром 22 июня бедный лектор, услышав в гостинице по радио голос В.М. Молотова о нападении на нашу страну фашистской Германии, «как буря» ринулся обратно в Свердловск, не заходя в райком ВКП(б).
Все последующие сутки, затем еще сутки, в райкоме никто не ложился спать, «бодрствовали», как будто от того что либо менялось в общей обстановке. Мне все же казалась смешной эта наивная бдительность.
Я отчётливо понимал, что война будет длительной, а не сутки или двое, как думали мои молодые коллеги.
5 августа 1941 года меня вызвал к себе первый секретарь райкома А. Паршуков. Произошел короткий разговор:
« Михаил Павлович! Уральский военный округ требует дать им от нашего района одного товарища в звании батальонного комиссара. Помимо тебя нет никого в районе в таком звании. Что ты думаешь?»
Я ответил, что моя жизнь принадлежит Родине. Куда меня необходимо послать, туда я и готов отправиться.
Паршуков рассмеялся:
« Михаил Павлович, дорогой мой! Да тебя совсем никто не думает посылать на фронт, какой уж из тебя солдат – сорок восемь лет, больное сердце. Нет-нет, тут совсем другое имеется ввиду. По секрету сообщу тебе, что тебя хотят использовать комиссаром окружного госпиталя в Свердловске. Сам я был комиссаром госпиталя в финскую войну. Работа очень интересная, условия хорошие, приличный оклад и я потому и не задерживаю твою кандидатуру, что считаю сделать тебе лучше. С работой, я уверен, ты справишься вполне.
Ну как, согласен?»
« Лучше бы послали меня на фронт, - возражал я,- не люблю я тыл, всегда как-то презирали тыловиков в первую мировую войну».
Паршуков улыбнулся:
« Да ты, брат, все еще храбришься. Но нет, пусть молодежь пока повоюет. А старики уж потом пойдут на фронт, в крайнем случае. Так решено?»
«Ладно, - промолвил я, - пусть используют, где лучше для дела.»
Комиссий медицинских я никаких не стал проходить. Но в моих военных документах значился миокардит первой степени, значит - ограничено годен.
Года два до того меня тщательно осматривал лучший врач Ирбитской больницы, Зубов. Говорил: «Э, батенька мой, из Вас никакого солдата больше не выйдет, сердце слабо работает.
… Спокойствие, меньше работать, не курить, не пить и, главное, режим!»
Да-а... Впоследствии, в 1943-44 годах, будучи партизаном, я делал переходы в летнюю ночь по пятьдесят - шестьдесят километров, до десяти километров в час, то есть - бегом всю ночь. И почти каждый раз на бегу вот этот разговор с врачом Зубовым приходил мне на память...
Дома мой призыв в Армию встретили очень спокойно. Все были уверены, что я буду служить в городе Свердловске, прилично получать, опасности никакой. Младший сын мой, Вовка, которому было семь лет, смотрел на меня с некоторым презрением: «Какой, мол, ты вояка в тылу-то, и пистолета никто тебе не даст повесить сбоку».
Мы имели корову, а косить в семье кроме меня никто не мог. А теперь стало и некому.
Жена просила все же поучить ее косить.
На второй день я взял её с собой на луга, учил, как косить, точить косу, да вряд ли чему научил.
Вечером меня проводили на вокзал, и я уехал в Свердловск, совершенно не думая о том, какая тяжёлая военная страда мне предстоит в будущем.
Часть 1. Глава 2. Комиссар полевого госпиталя.
Я спокойно спал в вагоне почти до самого Свердловска. От военкомата я имел направление прибыть в распоряжение социального отдела Уральского военного округа.
Из штаба меня направили к комиссару окружного госпиталя, которого, по призыву, я должен был заменить. Комната комиссара помещалась в здании окружного госпиталя.
День был ясный, теплый. Раненые, которые могли ходить, все вышли на балконы, многие гуляли в саду возле госпиталя, везде были разговоры, смех, шутки. На лицах раненых сияли радости жизни, выздоровления. О том, что их снова пошлют на фронт, мало кто думал.
И опять, как в первую мировую войну, я слышу разговоры о превосходстве противника в вооружении, об умении немцев воевать…
Один из раненых, молодой раненый солдат с широким умным лицом, плотный, широкоплечий, очень уморительно рассказывал, как они драпали от немецкой мотоциклетной роты:
«Дан нам был приказ задержать противника на шоссе у местечка N. Окопались, лежим в траве, нас совсем не видно. Вдруг впереди нас поднялось огромное облако пыли, затем треск и дикий вой - «хах, хах, хах»! Прямо на нас мчалась немецкая мотоциклистская рота. Лежали мы в густой траве возле леска. Немецкие мотоциклисты одной рукой правят-рулят, а другой, прижав автомат к пузу, стреляют куда попало. Мы тоже открыли огонь. Вдруг, позади нас загремели частые хлопки автоматного огня. "Окружили!" - завопил кто-то диким матом, мы кинулись удирать по лесу вправо. Только потом мы поняли, что немцы стреляли разрывными пулями, которые разрываясь, действительно сильно хлопали.»
Впоследствии, уже будучи комиссаром партизанского отряда, я тоже испытал на себе такое «окружение».
Рассказ раненого солдата вызвал у меня чувство какой-то неприятной досады.
«Почему же у нас - думал я, - мало автоматов? Ведь, кажется, еще финская война научила нас уважать это оружие!»
И вот я в кабинете у комиссара окружного госпиталя, которого призван был заменить. Передо мной на стуле еще довольно молодой мужчина лет 38-44 на вид, плотный, среднего роста, с чистым приветливым лицом, в звании политрука, то есть с одной шпалой в петлице. В Армию он пошел добровольцем, и я почувствовал, что этот товарищ просто «смертельно» полюбил окружной госпиталь и прочно занял исходные позиции для борьбы со мной, присланным. Забегая вперёд скажу, что так по его и вышло. Он остался "добровольцем" в Свердловске, я уехал с полевым госпиталем на фронт в строевые части.
Посмотрев мои документы, он ничего не сказал, подумал немного и крикнул в открытую дверь соседней комнаты: «Николай Александрович!». Из соседней комнаты к нам вышел мужчина лет под пятьдесят, суховатый стройный, по-видимому довольно крепкий. Тонкое, чистое, продолговатое лицо, но с большой горбинкой. «Поповской породы» - почему-то подумал я и не ошибся. Николай Александрович Пономарев, врач областной больницы, был действительно сыном священника, как я узнал потом.
« Николай Александрович, – обратился комиссар к вошедшему - вот вам комиссар госпиталя, познакомьтесь.»
«Начальник полевого госпиталя Пономарев», - промолвил тот, подавая мне руку.
« Пичугин», - ответил я, пожав ему руку.
«Вы на какой были работе?» - обратился ко мне Пономарев.
« В должности заведующего отделом пропаганды и агитации», - ответил я.
«Хорошо, очень хорошо, - обрадовался Пономарев, - следовательно, Вы политическую работу знаете, а я ведь воспитатель никудышный.»
Комиссар улыбнулся:
«Значит сошлись, пишите направление».
Тихо промолвил я, когда писал под диктовку: «Пичугин Михаил Павлович направляется комиссаром восемьсот пятьдесят восьмого полевого инфекционного госпиталя… Вот тебе, брат, и «комиссаром окружного госпиталя в Свердловске».
«Ну, - обратился я к Пономареву, - пошли в госпиталь, где он у вас?»
Пономарев рассмеялся.
«Пока госпиталь – это я и Вы. Нам с Вами придется заняться его формированием.»
Я ничего не ответил, и мы вышли на улицу. Затем вскочили оба в трамвай и прибыли на улицу Щорса, недалеко от барахолки, в пустующее здание начальной школы, где и должен был формироваться госпиталь. Ночевал я один в пустой школе, в углу одной из комнат на подстилке из сена, которую нашел во дворе школы. Было тепло, и я не нуждался в одеяле, а прибыл я в Свердловск в одном костюме. На второй день к нам были прикомандированы: начальник финчасти Белов из Невьянска и начальник материальной части Епифанов, член партии с 1919 года, начальник свердловской конторы «главчерметсбыта», тоже добровольцы.
Впоследствии, я встретил их приятеля Громова, комиссара в санитарном отделе округа, тоже доброволеца. Меня удивляло, почему все эти "добровольцы" не пошли на фронт в строевые части? Только потом я убедился, что такие "добровольцы" именно этим своим «добровольством» занимали места несравненно более безопасные, чем те, кто по мобилизации. Ведь по мобилизации непременно пошлют в отдельную часть на фронт.
Епифанов и оказался дрянь-человеком: пьяница, лгун, трус презренный, он причинил мне много вреда потом, при формировании полевого госпиталя.
Постепенно состав госпиталя увеличивался. Прибыли тринадцать шоферов и человек двадцать пять санитаров, затем три врача женщины, медсестры, фармацевты. Стали мы получать и машины, оборудование, обмундирование и все необходимое.
Старшиной был прислан Усольцев Петр Павлович, парень хороший, непьющий, вежливый и спокойный, бывший председатель колхоза «Победа» Егоршинского района. Усольцев был членом ВКП(б).
Из санитаров выделялся некто Иван Малов. По-видимому, фамилия Малов ему была дана в насмешку. Он был почти два метра ростом, по профессии шахтер с Егоршинских копей. Как и большинство егоршинских шахтеров Малов был горьким пьяницей. Для меня началась постоянная мука со всеми этими шоферами, санитарами, они пьянствовали, уходили в город, не спрашивая ни меня, ни начальника госпиталя.
Я не был кадровым военным Красной Армии, не считая моего кратковременного пребывания в ней еще в 1918 году под Пековым. Тогда я и получил звание батальонного комиссара, что равнозначно майору. Но мои шофера и санитары, все, оказались бывшие кадровые красноармейцы. Знали, что такое воинский устав и дисциплина. Однако, в сравнении со старой Армией, в которой я служил почти четыре года, эта дисциплина казалось для меня какой-то фальшивой, наигранной. Беспрекословного подчинения и выполнение приказаний не было. За положенным ответом: «есть, слушаю и т.д.» обязательно шли обязательно дополнительные разговоры, пререкания - «отрыжки митингования».
«Нет! - думал я, - с такой дисциплиной, мы не победим немцев».
По старой привычке я иногда громко перебивал рассуждающего: «не разговаривать, повтори приказания» и нередко давал «мата».
Однажды Малов явился ко мне, сильно выпивши, и привел с собой какого-то молодого человека лет 25-28. Молодой человек был почти трезвый.
«Вот, товарищ комиссар! – заплетавшимся языком начал Малов, - я привел к вам самого настоящего шпиона».
«Почему ты думаешь, что это шпион?» – молвил я.
« Я, товарищ комиссар, хоть и пьян, но сразу вижу шпиона. Вместе мы с ним сначала пиво пили в «американке», а потом он начал меня спрашивать, где я живу, что я делаю».
« Дальше что было?» – перебил я Малова.
« Дальше я повел его к Вам, пусть, мол, комиссар разберется».
« Где работаешь?» – быстро спросил я у "шпиона".
« На заводе «Урал обувь».
« Какой цех?»
« Седьмой, товарищ комиссар».
Я позвонил – мне ответили, что такой рабочий у них действительно работает, и работает хорошо.
« Можешь пойти» - сказал я рабочему, сердито глянув на сконфуженного Малова.
Следующий день у меня целиком ушел на то, чтобы пристроить Малова на гауптвахту на четырнадцать дней. Все гауптвахты были битком забиты.
С «губы» Малов вернулся сильно осунувшийся, бледный. «Теща», как в шутку звали «губу», плохо кормила «своих неисчислимых зятьев». Малов, как мне передали, дал торжественную клятву «свернуть голову комиссару». Но «клятву» эту Малов так и не выполнил. Судьба впоследствии разлучила нас навсегда.
Безделье – самый страшный враг человека, это я знал и раньше, а теперь особенно почувствовал на своем собственном госпитальном опыте.
Никто никаких указаний нам не давал: чем именно должен заниматься личный состав госпиталя. Вместе с начальником госпиталя мы самостоятельно составили расписание занятий.
В эти занятия я включил строевой устав, всю военную муштру, какой подвергался сам в старой армии.
Изучение винтовки, автомата, гранатки, ручного и станкового пулемета. Со стороны начальника госпиталя - занятия по вопросам медицины и всего того, что должен знать и уметь личный состав госпиталя.
Дело у нас закипело:
- вставали в шесть часов утра,
- ложились спать после поверки в одиннадцать часов.
Заниматься ходили по изучению пулеметов в дом офицеров километров за пять, проводили тактические занятия.
Ползали на брюхе по болотам, по грязи, все, и санитары и санитарки, медсестры, фельдшера и даже фармацевт, нежная дамочка с ярко-накрашенными губами.
Узнали об этой нашей строевой подготовке и комиссары других комплектующихся госпиталей. Они резко обозвали наши порядки «аракчеевским режимом», а меня «николаевским фельдфебелем».
В одно прекрасное утро прежде, чем приступить к занятиям, у дверей моей комнаты собралось все мое «верное воинство». Постучали в двери. И «парламентером» вошла фармацевт Коровина.
«Товарищ, комиссар! – начала Коровина, - личный состав госпиталя считает Ваши действия неправильными! Ни в одном госпитале воинские занятия не проводятся, люди не ползают по болотам как у нас и…»
«Довольно! – рявкнул я на Коровину, - чем вы хотели заняться? Губы красить? Кокетничать? В любовь играть? В других госпиталях пока еще не комиссары, а мальчики, они ещё не знают, что такое на самом деле война!»
Все же я вышел на двор, усадил всех моих людей на лужайку и начал с ними самую нужную для них беседу. Я рассказывал, что полевой госпиталь будет почти всегда у самой линии фронта. Я прочитал им несколько газетных статей, где рассказывалось о том, как санитары и санитарки госпиталя задерживали огнем наступающего противника, пока через реку переправляли раненых солдат, о том, как девушки санитарки на себе выносят раненых с поля боя... И многое другое.
«Я требую, чтобы каждый санитар - продолжал я, - мог править автомашиной, чтобы автомашиной могли править медицинские сестры, фельдшера и врачи.
Вы провожаете раненых, - говорил я, - ваша машина попала под обстрел, шофера ранило, кто поведет дальше машину? Оставить ее с людьми на дороге под обстрелом, можно ли так?!»
Долго и сильно я говорил о том, что все мы должны стать настоящими и умелыми солдатами. После этой беседы никто больше не возражал против строевых занятий, учились водить машину, поломали все заборы на окраинах Свердловска и все же, впоследствии, все это пригодилось. Сестра Котова, провожая больных на автомашине, заменила сильно раненого шофера Щелгачева и спасли людей, сумела вывести машину из под обстрела.
Постепенно мы приобретали материальную часть госпиталя, получили двенадцать автомашин, одну «дезкамеру», полевые носилки, белье и все прочее необходимое.
Получили и обмундирование. Командный состав спешил перешить, щегольски обузить широкие солдатские шинели, но я не стал заниматься этим делом. Подобрал шинель настоящую, солдатскую, широкую, длинную и плотную. Петлицы все же пришили в мастерской и на них две шпалы. Комиссарских отличий я не носил, и меня принимали за командира какой-либо части в звании майора.
В конце сентября всех моих санитаров забрали в строевые части, в том числе и того самого "буяна" Малова, который простился со мной задушевно и трогательно. Вместо санитаров мужчин, нам дали санитарами человек пятьдесят девушек из города Свердловска. Большинство из них имело среднее образование, многие - с первого курса института. Все пришли с путевками Комсомола добровольцами, пожертвовав всем ради служения Родине. Как отличались эти молодые, честные добровольцы от тех... «добровольных тыловиков», упомянутых мной ранее в повествовании. Просто приходилось удивляться, как стойко эти юные девушки переносили все невзгоды военной солдатской жизни.
Эти девушки прямо самозабвенно изучили все, что требуется санитару, медсестре и не было ни одного случая, чтобы кто-либо нарушил порядок, заведенный нами в госпитале.
Впоследствии им приходилось иногда голодать по нескольку дней, мерзнуть и мокнуть под дождем. Не спать подряд неделями, дежуря у постели больных и раненых солдат, переносить ужасы налета вражеской авиации. Обмывать и перевязывать гнойные ужасные раны. Очищать от кишевших на теле вшей больных, раненых, привезенных с позиции,
И никогда от этих девчат я не слышал ни одной жалобы на тягости военной жизни! Они всегда были исполнительны, тверды и жизнерадостны. А ведь в основном они были из хорошо обеспеченных семей, привыкшие к семейному уюту, родительскому вниманию и ласке.
Да, вот именно они и были настоящие, скромные, патриоты и герои, отдавшие Родине все: молодость, красоту, счастье семейной жизни и свою молодую жизнь.
И почти все они погибли на фронте в первые годы войны.
Слава родителям, слава Комсомолу, воспитавшим таких мужественных девушек и я склоняю свою седую голову перед их светлой памятью.
Часть 1. Глава 3. Одни сутки дома.
Жизнь в Свердловске ничем особенным не отличалась, и писать об этом нет надобности. Почему-то все мы с нетерпением ждали отправки на фронт.
В половине ноября я получил разрешение съездить домой на одни сутки. Порядки были введены в армии очень строгие. Самовольная отлучка свыше двенадцати часов считалась дезертирством, а дезертиров расстреливали.
И вот я дома.
Моя семья с квартиры на втором этаже переместилась на квартиру в нижний этаж, в маленькую комнату, более теплую, меньше надо будет дров. Жена уже готовилась к борьбе с нуждой, которая стучалась в двери домашних большинства призванных в армию.
В простой солдатской широкой шинели с петлицами майора я шагал по улицам города, а Вовка, маленький, живой, бежал со мной, держась за руку, и если какой либо солдат, встречаясь, неаккуратно отдавал честь, Вовка мерил его презрительным взглядом и шептал: «Черт неуклюжий, честь не научился отдавать».
Да, Вовка не шутя был воинственно настроен.
Затем я зашел в четвертую школу посмотреть, как учится старший Коля. Колю мы отдали в школу, когда ему уже минуло восемь лет. Был он очень худенький, бледный и довольно робкий. Пошёл он в школу, как и положено было, в семь лет. Каждый день я давал ему рубль на завтрак в школе, а учащиеся в той же школе ребята из детского дома каждый раз отбирали у него этот рубль в воротах школы, да иногда еще и пинка давали. Ему строго было ими наказано молчать и не говорить об этом дома, Коля молчал.
Однажды у меня не было рубля, и я дал ему три рубля. Вечером я вспомнил, что дал Коле три рубля и попросил сдачу. Парень мой сильно смутился, потупил голову и молчал. Я почуял что-то неладное и попросил его сказать правду. Коля никогда, ни разу, не говорил мне неправду и все чистосердечно рассказал теперь.
Мы решили с женой передержать Колю дома еще год, пусть подрастет и наберется сил, иначе он может попасть под влияние хулиганов. И вот теперь, придя в четвертую школу, я убедился, что мы поступили правильно. Коля вырос и окреп, никто уже не осмеливался просить с него рубль.
«О», - говорила мне учительница, - «он у нас теперь самый большой и сильный в классе».
Глава 4. Отправка на фронт.
На фронт из Свердловска мы всем госпиталем выехали 19 ноября 1941. Стояла теплая туманная погода, порошило, земля уже была покрыта значительным слоем снега. Уезжали вечером, в двадцать ноль-ноль. Я сходил на почту, вызвал по телефону Ирбит-райком и попросил дежурного послать за женой на квартиру.
Произошёл прощальный наш с ней короткий разговор. Помню, я давал какие-то маловажные советы и сообщил, что поедем на запад. Не знаю у всех ли людей такое настроение перед серьезной разлукой, но у меня всегда в такой час как-то все вылетает из головы. Она делается совершенно как бы пустой, мысли исчезают напрочь, не знаешь о чем говорить, и это очень мучительно, так как сердце в то же время мучительно ноет, болит, тоскует и хочется, в конце концов, «сократить» срок расставания.
Помню, как я провожал брата Ивана в Красную Армию после его побывки дома, кажется в 1925 году. Дело было зимой, в ноябре. Погоды стояли довольно теплые. Провожал я его на лошади, на санях. Отъезжали мы от дома верст сто глухой уральской тайгой, доехали до «Туринского» болота. Ширина этого болота –10-12 километров. Санная дорога только до болота, дальше пошла узкая тропа. И вот мы стоим у края нашей дороги, дальше ехать нельзя, а до Туринска, то есть до железной дороги сто тридцать четыре километра.
« Ну, Ваня! Простимся, - говорю я, - придется тебе шагать пешком до Туринска». Ваня, молча, набросил на плечи котомку, вынул кисет, мы свернули по «цигарке» и закурили. Курили и молчали оба, выкурили по одной, завернули еще по одной и Ваня промолвил сжато и глухо словами из романа или рассказа Джека Лондона «Это была их последняя сигара! Прощай!». Встретил я его после это только в 1934 году...
Так получилось у меня и при разговоре с женой по телефону. Мы по сути дела поздоровались и простились, то есть сказали друг другу: «Здравствуй и прощай». Я ещё что-то говорил, кажется, советовал переехать жить в деревню...И только...
В Торжке. Первые раненые и мои впечатления.
...Что-то около месяца мы формировались на территории Вологодской области, и наш полевой инфекционный госпиталь был придан вновь сформированной ЗУ армии.
(Примечание: у деда написано "ЗУ". Вероятно, Ударная армия - УдА ,3-я ударная армия. Управление армии было сформировано в ноябре 1941 года в Московском военном округе как управление 60-й (с конца 1941 года — 3-й ударной) армии и руководило в период Великой Отечественной войны действиями соединений и частей в составе Северо-Западного, Калининского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского и (с декабря 1944 года) 1-го Белорусского фронтов.
Следует особо отметить, что воины именно 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии памятным днём 1 мая 1945 года водрузили Знамя Победы над зданием Рейхстага.)
Из жизни Вологодской области в период формирования армии в памяти запечатлелся один эпизод, о котором я писал в письмах своим ребятам.
Мы в составе: начальника госпиталя, меня, врача Пономарева, еще пятерых врачей другого госпиталя, ехали на грузовике из города Никольска в село, где был расположен наш госпиталь. По сторонам дороги был уже глубокий снег, маленькие поля и перелески. Вдруг метров ста от дороги показалась рыжая лисица с большим пушистым хвостом и долго бежала параллельно дороги. Один из врачей выхватил пистолет и выстрелил в лисицу, но та, не обратив даже внимания, и спокойно ушла в лесок. Звери к тому времени стали привычны к звуку выстрелов.
О разгроме немцев под Москвой мы узнали уже в дороге на фронт. Радости нашей не было конца, да и не только нашей. Радость сияла на лице каждого человека, кого я видел в ти дни. Появилась твердая вера в нашу победу.
Россия «раскачивается», заявил мне один железнодорожник с большой черной бородой, и я с ним был согласен. Да, думалось мне, мы действительно только еще раскачиваемся. 3У армия, в которую влили и наш госпиталь, состояла из сибиряков и уральцев, людей стойких и мужественных.
Широки, необъятны, величественны и суровы просторы Урала, Сибири. Дремучие непроходимые леса, обширные степи, высокие горы, многоводные реки и широкие озера, над которыми вечно стелются волнистые белые туманы. В суровой борьбе за существование веками здесь человек отвоевывал свое право жить и творить. Преобразуя природу, человек преобразует и себя.
В жестокой схватке с морозами и вьюгами, суровой тайгой и хищным зверем закалялась воля уральца, сибиряка. Дикая необъятная ширь, безбрежная свобода, просторы, вдохнули здесь в человека неукротимый дух свободы и независимости. Уральцу и сибиряку присуща чистая и святая, как материнская слеза, любовь к Родине, к России, ко всему русскому. Только в таких условиях смог выковаться тип уральца и сибиряка: мужественного, стойкого храбреца, крепкого умом и русской природной смекалкой. Крепкого физически, верного товарища в бою и невзгодах солдатской боевой жизни.
Помню еще в первую мировую войну, когда в опасных местах фронта появились сибирские части, противник не имел успеха, не смотря на огромное превосходство в технических средствах войны. И только по мере того, как таяли в ежедневной боевой страде ряды сибиряков, нарастала дерзость противника.
Вот из таких замечательных людей состояли полки и дивизии ЗУ армии.
Но вооружение их было, по правде говоря, плохое.
Мало танков, совершенное отсутствие авиации.
Мало даже автоматов, минометов и артиллерии.
Это сильно бросалось в глаза, когда мимо нашего госпиталя проходили в бой наши войска.
...Ранним морозным утром мы высаживались на станции Торжок. От сильного мороза, густой туман окутывает станцию, и город это спасает от очередного налёта вражеской авиации.
Мы едем городом. Печальное зрелище представляется нашим глазам. Удары вражеской авиации сильно разрушили городок. Три дня шестьдесят немецких самолетов безнаказанно громили город с воздуха. А нашей авиации совсем не было видно.
Немецкие летчики издевались. Вслед за фугасными, бомбами они бросали пустые бочки, обломки рельс, пустые ведра, пивные бутылки и т.д.
Дома сгорели, разрушены, обгоревшие тополя, воздев кверху чёрные сучья, как бы говорили: «Смотрите, что сделали с нами враги».
Древний город Торжок, в нем еще самозванец Димитрий венчался с гордой полячкой Мариной Мнишек. А городок, видать, был хорош: маленький, плотно застроенный, прямые широкие улицы.
Я вспомнил кинофильм «Парень из Торжка». Нигде, я думаю, не пели до войны с таким чувством знаменитую песню «Любимый город», как в самом Торжке. Белые чистенькие домики утопали в зелени садов, чистые прямые улицы, на две части город разделяет река.
Гроза воздушного налета разрушила Торжок, три дня и три ночи сотни немецких самолетов бомбили город, дома разрушены, сады сожжены,.
Молча проходили части армии через сожженный и разрушенный город, пустынный, как кладбище, неся к фронту закипевшую злобу о ненависти к врагу, шли для расплаты за все.
Переехав через реку по уцелевшему каким-то чудом мосту, мы остановились за городом у пустой городской больницы. Больница, по такому небольшому городу, более чем прилична, построена в густом саженом лесу и, благодаря этому, уцелела полностью, только стекла в рамах были выбиты от сотрясений и воздушной волны.
В саду возле больницы мы разгрузили все имущество нашего госпиталя. Там ещё вместе с нами расположился и другой госпиталь. Личный состав двух госпиталей был устроен недалеко от больницы в маленьких деревянных домиках на уцелевшей от бомбежек улице.
И тут же мы получили приказ от начальника санитарного отдела армии, военного врача третьего ранга Рязаного:
«Подготовиться к приему раненых».
Фронт находился от Торжка в двадцати пяти километрах - началось наступление наших войск. Ночью пылающие села и города показывали, что противник отступает. Особенно ярко горело местечко Селижарово, где были большие цементные заводы. Иногда на линии фронта раздавались глухие и сильные взрывы, это немцы оставляли память о себе.
Городскую больницу мы быстро привели в порядок: очистили от мусора комнаты, починили рамы, наделали топчанов и приготовились к приему раненых. Наш восемьсот пятьдесят восьмой госпиталь был инфекционный, то есть, по борьбе с различными заразными болезнями, и у нас не было ни одного хирурга.
Наши инфекционисты, врачи и сестры, очень плохо умели делать перевязки и, тем не менее, нас заставили принимать раненых. Хорошо, что вместе с нами расположился хирургический госпиталь, и мы распределили обязанности. Наш госпиталь будет делать предварительную обработку раненых, обмывать, дезинфицировать, подготовить завтрак, обед и так далее, а хирургический будет производить операции и эвакуировать раненых в тыловые госпитали.
...Морозы становились всё сильнее и сильнее, ночи стояли светлые, лунные. И почти каждую ночь прилетал немецкий самолет и бомбил единственный оставшийся мост в городе через реку, Удивительно,но ни разу ни одна бомба не угодила на мост. Местность вокруг моста была буквально изрыта воронками. Самолет иногда появлялся и днем, спокойно делал свое дело, и никто ему не мешал, так как зенитной артиллерии не было, авиации тоже.
Приближался новый 1942 год, близкий фронт гудел, как надвигающаяся гроза.
Морозы становились все злее, как говорят, «с дымом». И вот в одну из таких морозных ночей к нам прибыла первая партия раненых, что-то около двенадцати автомашин. Каждая машина была временно приспособлена для перевозки раненых, то есть на кузовах машин были установлены брезентовые пологи.
Легкораненые ехали сидя, человек до двадцати на одной машине, а тяжелораненые лежали на походных носилках, поставленных в один ряд на пол кузова машины. В таком случае, на каждой машине помещали не более четырех носилок. Раненых к нам везли прямо из медсанбатов фронта, где им оказывалась первая помощь.
После потери крови раненые очень плохо переносили мороз. Многие лязгали зубами от холода и просили скорее взять их из машины. Тяжелораненые глухо стонали, слышались иногда вскрики, но, в общем, все себя держали себя геройски и терпеливо дожидались своей очереди, когда их снимут с борта.
Санитары и санитарки нашего госпиталя трудились самозабвенно, стараясь всячески помочь раненым. Быстро все машины были разгружены, а раненые перенесены в теплые помещения, где их обмывали, поили горячим чаем, поправляли сбившиеся за дорогу перевязки. Когда примерно через час я зашел в помещение, где располагались раненые, я увидел такую картину: все были умыты и прибраны, санитарки поили чаем тех, кто не мог встать. Многие аппетитно курили, на лицах раненых сияло довольство тепла и уюта, у каждого была во взгляде надежда на жизнь. А только два-три часа тому назад эти люди были в бою, часами лежали где-либо в снегу раненые, истекая кровью и теряя надежду сохранить жизнь. Но теперь они далеко от фронта, сытые и в тепле.
Раненый командир роты, молодой пехотный лейтенант, рассказывает лежащему рядом с раздробленной ногой артиллеристу, командиру батареи, как его батарея помогла им, пехоте, в бою.
«Знаешь, Саша, - говорил комроты, - не знаю, что было бы, если бы ты не помог нам артиллерийским огнем. Раз восемь наш батальон поднимался в атаку на эту деревню и каждый раз мы отступали с огромными потерями. Немцы превратили ряд домов в сильно укрепленные дзоты и беспощадно косили наши цепи пулеметным и минометным огнем. Уже стемнело, а мы всё ещё не могли взять деревню. Вдруг мне сообщили, что из штаба армии прибыли сам начальник штаба и комиссар полка, которые поведут полк в атаку на деревню. Уже было темно, когда раздалась команда и весь полк во главе с комиссаром полка снова ринулись в атаку.
Огонь немцев был ужасен, но меткой стрельбы с темнотой стало меньше. Моя рота уже ворвалась в деревню, когда меня ранило. Кровь так и хлещет, а перевязать нет возможности. Оказавшийся против меня немецкий дзот пулеметным огнем не дает подняться ни мне, ни моим бойцам... И вдруг, я вижу, как ты, Саша, катишь с бойцами свою пушку на передний край. Еще минута и прямой наводкой немецкому дзоту глотка была заткнута!»
Командир батареи слабо улыбнулся:
«Коля! Я рад, что помог тебе в эту трудную минуту. Прямой наводкой бить хорошо, но из всего орудийного расчета в живых остался, кажется, только я один. А комиссар полка, который водил полк в атаку - вон лежит на носилках с оторванной ногой и прострелянной грудью. Начальник штаба убит, мы несем ужасные потери, беря штурмом каждую деревушку...»
...Впоследствии я проезжал по следам нашего наступления и, действительно, каждое подобное наступление обходилось очень дорого. Немцы в таких деревнях крайние дома превращали в сильно укрепленные дзоты и оставляли в них только пулеметные расчеты и эти пулеметные расчеты, всего 15-20 человек состава иногда истребляли целые наши те же батальоны!
Так мы расплачивались за глупую линейную тактику.
В марте 1942 года мне пришлось быть на совещании госпиталей ЗУ армии. На этом совещании я узнал, что мы пропустили раненых через госпитали за два- три месяца больше всего первоначального численного состава нашей ЗУ армии, при прибытии её на фронт! Но при этом освободив от противника лишь незначительную территорию!
Это была бесцельная и бездумная трата живой силы нашей армии!
Итак, наш госпиталь занимался только подготовкой раненых для хирургического госпиталя, который расположился тут же в саду. В одно из моих дежурств стояла сильно морозная погода.
Температура на улице доходила до минус сорока градусов, госпиталь был уже заполнен ранеными, но прибывали все новые и новые партии... и скоро весь двор больницы был заставлен машинами с ранеными. Мороз давит, раненые стонут, многие почти замерзают, молят поместить их хотя бы в коридоре или еще где-либо, лишь бы не замерзнуть во дворе. Они вырвались из когтей смерти там, на поле боя, и конечно, умирать на дворе госпиталя...
Вбегаю в здание госпиталя, смотрю, палаты заполнены так, что свободно можно переставить койки и разместить еще столько же раненых. Коридоры тоже совершенно свободные! Кричу на санитаров, сестер и прочих, чтобы немедленно сносили раненых со двора в госпиталь, а мне отвечают, что дежурный врач больше не разрешает принимать раненых.
Сказать, что это меня сильно удивило, не сказать ничего. Я кинулся в комнату дежурного врача. За столом сидел седой человек и спокойно писал что-то в толстый журнал.
«Знаете ли вы, - закричал я, – что во дворе в машинах в сорокаградусном морозе замерзают раненые!»
«Что же я могу поделать, - ответил врач, - я и так принял в госпиталь больше, чем положено по плану и больше принять не могу ни одного человека.»
«Дурак!- не вытерпев, закричал я, - да разве на фронте в боях ранят и убивают ежедневно по плану? Да знаете ли вы, что пока мы с вами разговариваем, здесь, у самих стен госпиталя, люди умирают из-за вашей тупости и преступного равнодушия!»
Врач вскочил на ноги и с перекошенным от злобы лицом закричал:
«Я не позволю оскорблять меня! Я - дежурный врач, и сам отвечаю за все! И не ваше дело вмешиваться в мои распоряжения! Я на вас буду жаловаться начальнику санитарного отдела армии».
Потеряв всякое самообладание, я схватил этого идиота за руки, вытащил из-за стола, ударил рукояткой пистолета по столу и крикнул:
«Если через десять минут все раненые не будут внесены в госпиталь, я застрелю Вас, как собаку!»
И с силою швырнул его в коридор госпиталя. Сам сел за стол, положив перед собой часы и пистолет.
Прошло десять минут, врач не показывался.
Я вышел в коридор, где стояли носилки с ранеными, в палатах койки были сдвинуты и приняты новые раненые. Я вышел во двор, ни одной машины с ранеными во дворе не было. В течение ночи прибывали еще две партии раненых и все были приняты. Вместо положенных трехсот пятидесяти коек, мы приняты тысячу четыреста пятьдесят человек, нарушив всякие правила - таковы законы войны.
А на второй день вызвали меня к приехавшему начальнику санитарного отдела армии военврачу третьего ранга Рязанову. Встретил высокий, лет тридцати пяти красавец мужчина, богатырского сложения, физически развит, красивое простое русское лицо. Перед ним лежал рапорт побежденного мной ночью врача.
«Читайте!» - жёстко сказал Рязанов.
Я прочитал.
«Ну как, товарищ батальонный комиссар?»
«В этом рапорте всё истинная правда, товарищ начальник санитарного отдела армии».
И надо сказать, что врач, действительно, ни одного слова не выдумал и не убавил.
«Я восхищен объективностью мошенника», - сказал я.
Рязанов долго и внимательно смотрел мне в лицо, потом, чуть улыбнувшись, сказал:
«Я понимаю обстоятельства, заставившие Вас поступить так, но ... категорически запрещено так делать».
Впоследствии мы стали хорошими друзьями и с Рязановым, и с врачом, который прямо заявил мне, что он был совершенно дурак до стычки со мной, и что эта стычка заставила его смотреть на обстановку иными глазами.
Вот так-то.
Только личный опыт может быть критерием истины.
Глава 5. В деревне Дарьино.
По пути наступления наших войск.
20 декабря 1941 года ЗУ армия перешла в наступление на Ржевском направлении. Снега были в эту зиму ужасно глубокие.
Наступление вели без танков и авиации.
Противник отступал медленно, все же наши войска продвигались в день километров по 14-15. Моральное состояние нашей армии было прекрасным.
Героизм наших войск и ненависть к врагу крепли в ходе наступления. Бойцы видели теперь своими глазами врага в лицо, а не по газетам. Сожженные села, тысячи расстрелянных, повешенных оставлял враг на пути отступления. Проходя по местам вчерашних боев, я видел мстительную ярость наших бойцов, как правило, каждый убитый немец лежал с разбитой вдребезги головой. И если это не успевал сделать солдат, это делали женщины и подростки.
А немцы, отступая, жгли деревни. Ночью весь фронт казался кроваво-огненной лентой, из которой временами раздавались сильные взрывы. Столбы огня высоко поднимались к небу. Это немцы взрывали наши промышленные предприятия: цементные заводы в Селижарово и другие.
Впервые от местных жителей и бойцов мне пришлось услышать о немецких зверствах. Рассказывали, что одна женщина не могла снять сапоги с убитого немецкого офицера, тогда взяла топор и «оттяпала» мерзлые ноги. Принесла их в избу и в присутствии красноармейцев, которые зашли к ней погреться, забила ноги немца с сапогами в печку, оттаяла их и затем сняла с них сапоги. Эта её «бесчувственность» объяснялась ненавистью. Тем, что у неё немцы застрелили шестилетнего сына только за то, что его звали Владимир.
В другом доме немецкий офицер по-русски спросил пятилетнюю девочку:
«Где твой папа?»
«Летает...»(отец девочки был советским летчиком).
Фашистский выродок вынул пистолет и пристрелил девочку.
Много передавали потрясённые жители сведений и о других зверствах фашистов. На горьком своём опыте наш миролюбивый народ учился по-настоящему ненавидеть врагов, и враг почувствовал эту ненависть и ее грозную силу.
Но были среди народа и такие, которые сживались с немцами и изменяли Родине.
И ешё, были такие, которые хотели оставаться «нейтральными». Пусть их всех, воюют, наше, мол, дело - «сторона». И «хата моя с краю, ничего не знаю».
Вот у такого "нейтрала" мне пришлось однажды стоять на квартире в деревне Дарьино Калининской области, где мы приступили к оборудованию полевого госпиталя.
Этому мужичку было лет шестьдесят. Семья их состояла из четырех человек: хозяин, жена, сноха, внучка. Сын его отступил вместе с Красной Армией, он был кандидат в члены ВКП(б). До войны сын служил в районе, и теперь его семья очень боялась немцев. Сам мужичок этот в Первую Мировую войну служил денщиком у офицера.
Их, то есть денщиков, презрительно называли «холуями». Часто – за дело.
У меня была водка, и я иногда угощал старика, а он мне платил за это большой взаимностью: стлал мне постель, ходил за обедом, по нескольку раз за ночь он подходил ко мне и поправлял сбившееся одеяло. Такого любовного отношения к себе я в жизни не встречал ранее.
Деревня Дарьино только что недавно была освобождена от немцев, немцы из этой деревни были выбиты неожиданным ударом и не успели при отступлении сжечь ее.
Подвыпив однажды, мой старик «денщик» вступил со мной в откровенный разговор:
« Знаешь, комиссар, - начал он, - я тебе как Богу скажу всю правду, что я думал, как началась война. Ты хоть меня прямо в НКВД веди, а я всё скажу, что думал.»
«Что же ты думал?», - спросил я.
« Думал я, когда немцы заняли деревню, что все пропало. И советской власти конец, и России конец.»
«Ну, а теперь как думаешь?»
«Теперь думаю - немцам конец. Озлился наш народ до ужаса! Его теперь не удержать, до Берлина дойдут, и сами немцы говорят об этом. Когда наши стали наступать, у нас в дому жили четыре немца - поварами работали на солдатской кухне. Так вот, один из них, рыжий такой верзила, вбежал к нам в избу и кричит: «Лус озлился! Немец капут!».
«Я тебе прямо скажу, - болтал «мой холуй»,- Советскую власть я когда любил, а когда и нет. И немцев - когда боялся, а когда и нет. Думал иногда: «а не все ли равно за кем жить, может, еще и землю дадут в единоличное пользование при немцах – хозяином буду, как и раньше». А по деревне болтали, что немцы привезут много товаров, магазины будут торговать ситцем, сукном, колбасами, ветчиной и прочим.
И вот - приехали немцы.
Сидим мы, значит, за обедом: я, жена, сноха и внучка. Хлеб на столе, два каравая.
Слышим, топают немцы на крыльце. Вошли в избу четверо, у двоих большие мешки в руках, ну, думаю, не иначе как колбасу носят раздавать, сахар и еще что-нибудь.
Встал я из-за стола, поклонился им, говорю: «Милости просим, господа, покушать нашего хлеба с нами». Один, высокий, черный такой немец – морда длинная лошадиная - а ручища… , я думаю он никогда не мыл их, до того грязные. Подошел этот верзила ко мне, хлопнул меня ручищей по плечу, оскалил лошадиные желтые зубы и говорит: «Гуд Лус, гуд Лус!», значит «хорошо, хорошо!», а потом провел ручищей по столу, и мои два каравая хлеба как корова языком слизнула со стола - стукнулись оба в мешок.
Я и рот разинул - вот так колбаса, ветчина, сахар – получил! Другой немец хлопает по плечу мою старуху и бормочет: «Матка, яйки! Герман зольдат, кушать надо!».
Встала моя старуха, подошла к шкафу у печки, достала корзину с яйцами – три десятка в ней было - и деликатно так, с улыбочкой, подает им четыре штуки. Мол, вот вам по штуке на брата, примите на здоровье. Этот, который с лошадиной мордой, опять заорал: «Гуд! Гуд лус!». Потом взял всю корзину и передал другому немцу «на, мол, неси». Потом и пошли шарить, и пошли...
« Счастье мое, что хоть я не боялся немцев, но все же на всякий случай хорошее-то всё надежно припрятал. Так они и барахло забрали!»
Старик так комично представил в лицах всю сцену, все своё разочарование в отношении немецкой «доброты», что я неудержимо захохотал. Немного погодя начал смеяться и мой "холуй".
«Так вот, товарищ комиссар, я узнал, что и как нам надо делать теперь. Вылечили немцы мои мозги.»
***
В Дарьино мы пробыли недолго, не успели даже принять ни одной партии раненых, как нам приказали переехать на новое место в местечко Нелидово Великолукской области. Переезд на автомашинах зимой нам предстояло сделать более трехсот километров. Переезд этот мы сделали быстро и благополучно, не считая двух неприятностей, имевших место в дороге.
В довольно большом селе Кувшиново мы остановились всей колонной из тринадцати машин у здания комендатуры, так как в этом месте стояло много войск. Впереди моей машины ехали наши сестры и санитарки, молодые и веселые девчата. Из здания комендатуры вышел какой-то офицер и подошел сзади машины, где ехали медсестры и санитарки. Офицер, держась за задний борт машины, весело «бил зубами» с девчатами. Наша машина находилась всего в девяти метрах от передней машины, и вдруг она медленно сошла с тормозов и подошла вплотную к заднему борту передней машины, у которой стоял и чужой офицер. Я не придал этому никакого значения, правда наша машина чуть притиснула офицера к заднему борту первой машины, но он и вида не подал, что ему больно, не крикнул, ничего не сказал, а просто пошел к зданию комендатуры. Вскоре после этого наша колонна двинулась дальше. Отъехали мы не более как на десять километров, вдруг нас догнал на мотоцикле связист особого отдела комендатуры Кувшинска и заявил, что мы искалечили офицера особого отдела, у которого оказался сломанный позвоночник. Я не мог поверить этому и счёл это простым недоразумением. Чекист требовал повернуть нашу колонну обратно в Кувшиново для разбора дела. Я наотрез отказался, чекист пригрозил. Я послал его по всем матюкам, какие мог вспомнить. Мой чекист смутился и, записав мое «имя и звание», повернул во свояси.
Второе событие - комического характера:
На одной из машин мы везли в мешках пудов двадцать белого порошка от вшей, забыл его название. Вспомнил, кажется - «перетрум». Остановились ночевать в деревне, а ночью один мужик украл с машины мешок с порошком, думал, что мы везем муку крупчатку, а его старуха на радостях, что достали муки, приступила ночью заводить блины. Блинов, конечно, не вышло. Вот мужик и принес мешок обратно утром, заявив, что нашел его на дороге. Мы не стали привязываться к человеку, видя как трудно с питанием в этой деревне.
Глава 6.1. В Нелидове. Кровь за кровь.
От небольшого городка Андриаполя мы двинулись к пункту нашей остановки Нелидово. Дорога почти все время шла лесом километров восемьдесят. По обе стороны дороги в лесу лежали чуть не штабелями снаряды, мины, гранаты, патроны и прочие боеприпасы. Это всё понакидали наши шофера, ввиду различных автомобильных аварий и поломок.
В Нелидово мы приехали ясным солнечным днем и, не доехав три километра, остановились в лесочке. А начальник с одной машиной поехал в Нелидово. Мы хорошо сделали, что остановились не доезжая места назначения. Нелидово был небольшой рабочий поселок. Немецкие самолеты весь тот день висели над этим несчастным поселком и беспощадно его бомбили. Начальник госпиталя вернулся из Нелидово и рассказал, что там находится штаб полевых госпиталей ЗУ армии, к которому мы принадлежали. Когда стало темнеть, мы тронулись в Нелидово. Местечко было новое, стройка деревянная и почти вся уцелела, хоть и немцы ежедневно бомбили поселок. Разместились мы в довольно хороших квартирах, замаскировали машины, разместив их у различных пристроек. Через Нелидово идет железная дорога Ржев – Великие Луки.
Утром я пошел на станцию, вернее, на то место, где должна быть станция. Но ее давно уже не было. Немцы разбомбили ж/д станцию в первые же налеты. Возле, в сосновом лесу, я увидел страшную картину, это была огромная поленница из немецких трупов, в ней было, как мне потом говорили, две тысячи семьсот четыре трупа. Большинство из этих трупов были проколоты штыками, с разбитыми черепами. Говорили, что наши войска, наступая здесь, захватили эшелон с ранеными немецкими солдатами и всех, до единого, прикончили. Как и всех взятых в плен в боях за это местечко «фрицев».
«Кровь за кровь, смерть за смерть», - думал я, - так и нужно делать. Фашисты грозят истребить весь наш народ и убивают сотни тысяч нашего мирного населения в оккупированных районах! А почему мы должны либеральничать? На истребительную войну, мы тоже ответим истребительной войной».
В Нелидово мы пробыли недели три. Оборудовали госпиталь, который быстро заполнился ранеными. Фронт от Нелидово был и недалеко, и очень далеко. Это было самое «горло Ржевского кувшина». Линия железной дороги Ржев – Оленино находилась в руках немцев. Пулеметные очереди хорошо были слышны в Нелидово. Можно сказать, что фронт против Нелидово был необычайный: у станции Оленино, километрах в двадцати пяти, были немцы. Это в левую сторону. А в правую, немцы были в городе Белом Смоленской области, тоже километров двадцать пять от Нелидово.
История образования здешнего фронта такова.
Около 8 января 1942 года части 39 и 29 армии прорвали фронт противника северо-западнее Ржева. Части нашей армии подошли к Ржеву, но взять сходу сильно укрепленную полосу противника под Ржевом не удалось. Не хватило танков и самолетов, и бои под Ржевом затянулись. Наша армия понесла в жестоких боях большие потери, но наступающий порыв войск не ослабевал.
Командовал 39 армией храбрый и любимый солдатами генерал-лейтенант Масленников Иван Иванович***. Командный и политический состав армии и многие рядовые бойцы называли его в разговорах между собой просто «Иван Иванович». Он был близок и понятен солдатской массе. Разделял вместе со всеми все невзгоды боевой жизни. Штаб армии неотступно следовал за наступающими частями первого эшелона. Иногда, в решительные моменты при штурме укрепления противника Иван Иванович бросал в бой ночью весь состав штаба. Часто, лежа под огнем противника с утра и до ночи в снегу, бойцы слышали вести: «Прибыл полковой комиссар из штаба. Сам поведет нас в атаку». Комиссар вел в атаку с криком: «За Родину! За Сталина!». И тогда ничто не могло устоять перед натиском славных уральцев.
(*** Примечание.
Генерал-лейтенант Масленников И.И – одна из ключевых фигур произошедшей Ржевской трагедии. Фигура неоднозначная.
Родился в семье ж/д служащего 4-го разряда 3 (16) сентября 1900 г. на станции Чалыкла, ныне Озинского района Саратовской области. Был одним из 14 детей. Перед революцией Масленников, сын путевого обходчика, успел окончить 2-х классное железнодорожное училище и уже в 15 лет стал телеграфистом на ж/д.
В 1917 г. Иван Масленников вступает в отряд Красной гвардии, который в апреле 1918 г. вливается в 1-ю Уральскую советскую дивизию. И началось бурное продвижение его по службе. Личная храбрость Масленникова была отмечена и вознаграждена по заслугам. В 1924 году вступил в ВКП(б). Учился на Новочеркасских кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА. Командование бросало его в горячие точки, где молодой командир неоднократно отличался в боях с басмачами. В 1932 г. он оканчивает старший курс Новочеркасских кавалерийских курсов и назначается командиром-комиссаром 11-го Хорезмского кавалерийского полка ОГПУ. В 1934 году он заочно оканчивает Комвуз Среднеазиатского ЦК ВКП (б), а в следующем году, тоже заочно, Академию РККА им. М.В. Фрунзе. Масленников назначается начальником отдела боевой подготовки пограничных войск НКВД Азербайджанской ССР. Здесь Масленников познакомится с закавказскими чекистами, которые очень скоро будут играть важную роль в органах госбезопасности. Наркомом внутренних дел Азербайджана был комиссар госбезопасности 3-го ранга Ю.Д. Сумбатов-Топуридзе, пользующийся доверием и покровительством Берии и Багирова. В декабре 1937 г. Масленников получает звание комбрига и новое назначение. Он становится начальником Управления пограничных и внутренних войск Белорусской ССР. Вскоре и заместителем наркома внутренних дел Белоруссии. 28 февраля 1939 года Масленников был назначен заместителем по войскам наркома внутренних дел СССР тов. Берии. Новый заместитель Берии понравился. На новой должности Масленников курировал пограничные и конвойные войска, войска по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности, Главное военно-строительное управление и Главное управление военного снабжения. В марте 39-го ему присвоили звание командира дивизии, и в этом же месяце на XVIII съезде ВКП (б) Масленникова избрали кандидатом в члены ЦК партии. В марте 1940 г. Масленников становится командующим корпусом, в апреле - награждается орденом Ленина, в июне, с введением генеральских званий, переаттестован в генерал-лейтенанта, в феврале 1941 г. получает орден Красной Звезды.
Не перечисляя весь послужной список И.И. Масленникова, отметим, что
в июне 1941 года Масленников Иван Иванович был назначен на должность командира оперативной группы Западного фронта, в июле 1941 года — на должность командующего 29-й армией, а в декабре 1941 — на должность командующего 39-й (уральской 3У) армией. На Западном направлении положение дел было весьма неудовлетворительным. Поэтому сразу же в июле 1941 года в основном за счёт мужского населения Урала и Сибири формируют 4 резервные армии (1У, 2У, 3У, 4У) под руководством генералов погранвойск. Как и многие советские военноначальники того времени, И.И. Масленников не был готов к ведению боя в новых тактических и технических условиях. Он оказался одним из тех генералов, которые готовились к прошедшей (Гражданской) войне. И навыки нового военного мышления и планирования он постигал на горьком опыте 29 и 39 (Уральских) армий под Ржевом. В ходе Ржевско-Вяземской операции 39-я армия под командованием Масленникова 8 января прорвала оборону противника и, развивая наступление на Сычёвку, обеспечила ввод в прорыв 1-го кавалерийского корпуса П.А. Белова для партизанских рейдов в тылу противника.
К июлю 1942 года 39-я армия уже занимала важный плацдарм, глубоко вклинивающийся в немецкую оборону в районе Холм-Жирковского. За этот «кавалерийский наскок» он был отмечен маршалом Василевским. Однако, из-за многочисленных промахов руководства, в том числе и 39 армии, в ходе немецкой контр операции «Зейдлиц» наша армия была окружена и почти полностью погибла. Скупые строки… Ржевское побоище… Потеря руководства над армией, бездарные и бездеятельные заместители… Ржевский разгром…
Масленников И.И. пробивался из окружения вместе со своим штабом, отказываясь принимать в состав своего отряда других «окруженцев». Масленников получил ранение и, один из всех, был вывезен из окружения самолётом.
Штаб 39 армии был почти полностью перебит и переранен в этих жестоких боях. После вывоза командарма, застрелился раненый начштаба армии генерал-майор П.П. Мирошниченко, пропал без вести начальник политотдела армии. Оставшихся «штабных» выводил из окружения генерал-лейтенант И.А. Богданов. Сам он погиб при пересечении линии фронта.
Но сотни тысяч «солдатской массы», по словам Брагинского, связиста штаба армии – «кишевшего в лесу» - дезорганизованные отсутствием надлежащего руководства и шатающиеся от голода, без боеприпасов, больные дизентерией, брошенные на произвол противника, они погибли в Ржевском котле или попали в позорный плен. За ними самолёт не прилетел. Не прилетела авиация даже поддержать отступление уральцев и сибиряков – русский костяк 39 армии. Цвет Урала и Сибири трагически сложил свои головы подо Ржевом. Только отдельным подразделениям, сохранившим дисциплину и управляемость, и удалось выйти из окружения на участках южнее и севернее города Белого в полосе 30 и 32 армий.)
Узкой полосой прорыва углубились две наши армии в расположении противника до станции Сычевка на 160 км. С налета взяли Сычевку, но подошедшие танковые части противника снова заставили отступить наши войска. Солдаты никак не могли сознаться, что они оставили Сычевку в виду превосходства сил противника и приписывали неудачу обилью водки, взятой в Сычевке. Водки действительно было много, и многие перепились, но, конечно, причина отхода наших войск была не водка. Солдаты-уральцы свято верили в ехидную народную пословицу «Нет молодца, чтобы поборол винца», и на винцо, а не на танки противника сваливали свою вину.
Подбросив свежие части по железной дороге «Вязьма - Ржев», противник занял линию прорыва наших войск у Ржева, всего шириною около 15 км. ЗУ и 29 армии оказались в окружении в глубоком тылу врага. Более месяца тщетно пытался враг уничтожить окруженные части ЗУ и 29 армии. Более двух недель части нашей армии генерала Лелюшенко**** штурмовали противника у Ржева, чтобы пробить кольцо окружения и помочь окруженным армиям, но безуспешно.
(**** Примечание.
На протяжении всего 1942 года во главе армии Дмитрий Данилович Лелюшенко участвовал в Ржевской битве. В январе - апреле 1942 года армия вела тяжелые наступательные бои в первой Ржевско-Вяземской наступательной операции. В ходе Ржевско - Сычёвской наступательной операции в июле—октябре 1942 года армия под командованием Лелюшенко с большим трудом «прогрызала» немецкую оборону, медленно продвигаясь к Ржеву. Хотя ей удалось прорвать первый рубеж обороны, но в дальнейших боях войска понесли серьёзные потери и не смогли выполнить поставленной боевой задачи. Ржев не был взят, хотя части армии вышли к его окраине и в ходе яростного штурма несколько раз врывались в город, но каждый раз были отброшены противником.)
Наши окруженные армии испытывали страшный недостаток в боеприпасах и особенно в питании. Ели конину, мерзлую картошку, сами молотили хлеб. Некуда было девать раненых, но дрались храбро и мужественно части Красной Армии. Идя на выручку окруженным, прорвали кольцо окружения у местечка Нелидово и соединились с окруженными частями 39 и 29 армии, расширили и углубили прорыв до 150 км в глубину и более 200 км по фронту. Фронт принял форму огромного пузыря. Почти кувшина в разрезе.
Наши войска заняли линию обороны, очень невыгодную для нас, но выгодную для противника.
У нас болота, леса и полное бездорожье. Единственная дорога из Андриаполя была лесная грунтовая, восемьдесят километров до горла этого «кувшина», и далее шла лесами и болотами более ста километров. Эта часть была проезжей только зимой по морозам.
Противник же имел железные дороги Смоленск – Вязьма, Вязьма-Ржев. По видимому, наше командование заняло такую позицию временно, угрожая флангу немецких войск у Ржева, Вязьмы, Великих Лук, но не предвидя немецкого наступления на Сталинград.
Такую позицию держать можно. Однако надо было её сильно укрепить. Проложить хорошие дороги, обеспечить пополнение вооружением. К сожалению, ничего этого сделано не было.
Занимая такое невыгодное положение, мы в то же время в стратегическом положении занимали выгодные позиции, наша армия со своей стороны угрожала отрезать немецкие армии, стоящие у Ржева, сковывала силы противника в важном стратегическом пункте.
Вопрос решался соотношением сил, сможем ли мы сдержать линию фронта, не дать захлопнуть ворота нашего прорыва Оленино – Белый, или противник, создав перевес сил, раздавит нас в этом кувшине?
И вот именно в дыру этого «кувшина» и был направлен наш полевой госпиталь из Нелидово. При этом Рязанов, начальник санитарного отдела армии, чистосердечно нам заявил: «Вам предстоит окружение. Мне хочется иметь и мои госпитали в окружении вместе с другими частями, иначе мне и похвалиться нечем будет, а вам награды не за что будет давать».
Мой начальник госпиталя, врач Пономарев, прыгал как молодой козлик и был очень доволен, что наш госпиталь посылают в этот чертов мешок. По-видимому, он надеялся «заработать» ордена, медали и прочее. Опасности Пономарев презирал, говоря, что он ничего не боится. Мне не нравилась такая «храбрость».
«Не ел ты еще пирога с овечкой», - думал я, - не узнал ещё на своей шкуре, что такое война.»
6.2. В чертовом мешке.
Темной ночью выехали мы из Нелидово и въехали в «проклятый кувшин». Дело было в феврале 1942 года. Погода стояла относительно теплая для зимы. Мы благополучно прибыли к месту назначения, в деревню Дунаево Смоленской области. Деревня была расположена за рекой Опшей, притоком западной Двины, на высокой горе. Машины пришлось оставить внизу горы на льду реки, замаскировав их в прибрежных кустах. А сами мы поднялись по горе в деревню Дунаево. Огляделись.
Для госпиталя место было выбрано удобное, мы заняли помещение бывшей школы, которая помещалась в старом помещичьем доме. Весь следующий день ушел на подъем машин в гору и на выгрузку имущества госпиталя. Мы, то есть: я и начальник госпиталя, остановились на квартире учителя, который по болезни желудка не был пригоден для службы в армии.
Дунаево и весь район уже раньше был оккупирован противником и освобождён в зимнее наступление. Поэтому жители знали, что такое немцы и немецкая оккупация.
В этот раз наш госпиталь был действительно инфекционный. Раненых мы не принимали. Их увозили дальше в тыл. Да и мало тогда их было, так как боёв после февральского наступления не было. Но сильно свирепствовали заразные инфекционные болезни: тиф и, особенно, дизентерия.
С наступлением весны армия наша стала сильно голодать - дорога рухнула, как только растаял снег. Командующий тылом армии генерал-майор Коньков*палец о палец не ударил, чтобы подготовить дорогу к весне. А ведь все условия для этого были: лесу - сколько угодно, народ в деревнях сидел по домам и ничего не делал, да и солдат можно бы было использовать!
Но никому до строительства дороги не было дела.
(*Примечание.
Коньков Василий Фомич -25 ноября 1941 года назначен заместителем командующего по тылу 30-й армией на Калининском и Западном фронтах, участвовал в битве за Москву и Ржевско-Вяземской наступательной операции. С февраля 1942 года — заместитель командующего по тылу 39-й армией Калининского фронта, продолжавшей участвовал в наступательных и оборонительных операциях на Ржевском направлении. С сентября 1942 года -заместитель командующего по тылу 29-й армией Западного фронта.)
Такого благодушия и беспечности я не видел даже в Первую Мировую войну. Армия голодала, начались болезни.
В нашем госпитале, рассчитанном на 250 человек, число больных достигло до 800-1100 человек. Больше всего болели дизентерией. Солдаты бродили по полям, копая гнилую прошлогоднюю картошку, попрошайничали у населения, моральный дух падал. Армия таяла, как снег весной. В дивизиях вместо 15 тысяч оставались 3-4 тысячи солдат. К нам везли тогда, когда исхудалый измученный солдат не мог уже сам ходить. Кожа да кости. Зайдёшь в палату, где "лечат" больных и ужас берёт: худые, как скелеты, испражняются кровью! Вонь, духота! Каждый день хоронят от 5 до 8 человек.
Но всё же, молодые солдаты, попав к нам в госпиталь, поправлялись быстро. Умирали по большей части - пожилые. Кормили мы больных хорошо. За зиму госпиталь сделал большие продуктовые запасы. В этом безо всякой похвальбы была моя заслуга. Я не жалел водки, чтобы "угостить" интендантов тыла. И водка делала чудеса. Кроме этого нам помогало продуктами и местное население, беспрекословно обеспечивая наш госпиталь свежим мясом. Дело доходило до того, что жители оставляли одну корову на две семьи, а вторую отдавали больным солдатам на пропитание.
Каждый день я посещал палаты, читал больным газетные новости. Беседовал с нашими пациентами. И передо мной всё более и более раскрывалась жуткая картина положения нашей армии.
Солдаты жаловались мне:
« Товарищ комиссар! Что это такое делается на фронте? Люди голодают. Части не имеют и 4/5 полагающегося количества солдат. Поэтому почти бессменно приходится быть в нарядах. Офицеры озверели, бьют солдат хуже, чем в старой армии!»
Моральный дух солдат падал прямо на глазах. После выздоровления, как правило, каждый приходил ко мне с просьбой оставить его при госпитале на какой либо работе.
Наконец в нашу армию пришло "пополнение". Только такого "пополнения" лучше бы не посылать. Это были таджики, калмыки и прочие. Не солдаты, а горе одно. «С этими мало обученными,- думал я, - не много навоюешь».
Однажды ночью я вышел на улицу, посмотрел на небо - и сердце моё невольно сжала тупая боль. По всей линии фронта противник освещал небо ракетами. Фронт от нас был всего в 8 километрах, а далее он обходил огромным кольцом всю нашу армию. Выход из "кувшина" всего в 50 км шириной совершенно не был заметен в этом огненном кольце.
«Да, мы уже в окружении», - думал я.
«Знает ли командующий армией, что стоит противнику сжать фланги фронта всего по 25 километров с той и другой стороны - и мы в кольце?»
Из рассказов больных мне было доподлинно известно, что у ст. Оленино (на левом фланге горла нашего "кувшина") и у города Белого (на правом фланге) никаких наших укреплений нет.
«Знает ли командующий, - думал я, - что его армия дезорганизована голодом, болезнями, таким бесполезным "пополнением". Что она больше не способна вынести те испытания, которые уже вынесла этой зимой. Но тогда наша армия была из уральцев и сибиряков. А теперь этих храбрых и стойких солдат уже почти нет. Они перебиты, переранены, они болеют тифом, дизентерией и другими болезнями».
Наконец я не выдержал своих мыслей и решил действовать. Я пошёл прямо-таки на безумный поступок - вот прямо теперь поехать в штаб армии и командующему армией "дать совет", как избежать грозящей нам катастрофы.
Это теперь, с высоты прожитых лет, я горько улыбаюсь своему решению, но тогда я просто не мог не сделать этого. Совесть гнала меня в штаб армии.
Не знаю, чем бы кончилась для меня эта "затея", но, к моему разочарованию, я не застал командарма в штабе, хотя штаб находился всего в 4-х километрах от передовой линии. В штаб я приехал ночью. Окна в избе, где штаб помещался, были тщательно завешаны. На столах в приёмной, в канцеляриях, горели "солдатские молнии", то есть самодельные светильники из гильз.
Всё же, моё звание батальонного комиссара равнялось званию майора, а в штабе были лейтенанты и капитаны. Кажется, я не видел там майоров.
Штабисты окружили меня. Никто не спросил моих документов и все наперебой стали говорить мне о тяжёлом состоянии наших частей. Меня поразила их откровенность и их "обречённое" настроение. Штабисты рассказали мне то самое, что говорили и больные солдаты. И, наконец, открыто заявили, что стоит немцам начать наступление - мы погибли! Нам не выдержать теми силами, которыми мы располагаем.
Я спросил:
«Знает ли об этом Командующий?»
Мне ответили: «Знает!»
«Что он думает делать?»
« Отсидеться за укреплениями.»
«Почему он не ставит вопроса перед командующим фронтом? Перед Верховным командованием? Ведь это касается не только нашей 39 армии, но и армий других: 22-ой, 29-й, 44-й, 41-й! Корпус Белова?**»
(** Примечание.
Конники генерала Белова провели полгода в тылу врага. В январе 1942 года 1й гвардейский кавалерийский корпус ушел под Вязьмой в глубокий рейд по тылам фашистов. И только в июне 1942 года измотанный, но боеспособный корпус вышел из окружения в районе Кирова.)
Мне ответили, что командующий армией лучше согласится погибнуть, чем ставить такие вопросы перед Верховным Командованием. Я попросил топографических карт местности. Мне их дали и я уехал обратно.
Катастрофа надвигалась.
Вскоре после моего «визита» в штаб армии к нам в госпиталь прибыл адъютант командарма. Здоровый, краснощёкий весельчак лейтенант.
Он заявил, что командующий армией генерал лейтенант Масленников Иван Иванович сильно заболел и просит прислать немедленно врача. Лучшим врачом терапевтом был, безусловно, начальник госпиталя Пономарёв. Он охотно согласился поехать в штаб, оказать помощь такому «высокому» пациенту. И, захватив с собой ещё врача Аликину, укатил лечить командарма. Врач Аликина была высокая, довольно красивая женщина лет 28. А адъютант остался… «Пропировал» у нас всю ночь, поволочился за смазливыми санитарками и сестричками и уехал обратно.
Через два дня вернулся начальник госпиталя Пономарёв. Один. Без Аликиной.
«Ну как здоровье командарма? – спросил я у Пономарёва.
«Так, пустяки, нервы шалят у него.»
«А Аликина почему не вернулась?»
«И не вернётся»,- ответил Пономарёв.
«Она будет штабным врачом «лечить сердце командарма».
Я злобно выругался и шарахнул рукой по столу.
Этак через недельку к нам в госпиталь явился опять тот же адъютант командующего армией и заявил, что командарм требует к себе наших санитарок Лемешеву и Пьянкову. Лемешева – девка красивая, здоровая, высокая и довольно легкого поведения. Такой же была и Пьянкова.
Я хмыкнул: "Что, командарм бардак хочет открыть при штабе?" Лейтенант расхохотался в ответ и сказал:
«Знаешь, комиссар, не наше дело, что хочет сделать начальство. Мне сказали, что при штабе организуется женский снайперский взвод.»
«Никого я вам не дам», - горячился я.
«Эх..комиссар, - возразил адъютант, - не ерепенься, пожалуйста, один комиссар уже получил выговор за отказ, получишь и ты.»
Я подумал и махнул рукой.
«Бери и вези. Может, с этим снайперским взводом вы и в самом деле удержите фронт, когда немцы начнут наступать.»
Адъютант снова напился «в стельку», проспал у нас ночь и следующим днем уехал вместе с Лемешевой и Пьянковой.
«Так вот чем заняты ум и сердце командарма, - думал я с горечью: «Бездарные белые генералы и то бы так не сделали».
Приближалась весна, надо было подумать, как мы будем принимать раненых и больных, когда разольется речка Опша, автомашины мы поместили за речкой в небольшой деревушке, там же поселили шоферов. Районный центр от Дунаево был в пятнадцати километрах. Однажды утром я встал на лыжи и прямиком двинулся в райисполком. Председатель райисполкома и секретарь райкома меня приняли тепло, они оба бывали у нас и мы не скупились на водку для них. Райисполком и райком помещались рядом в небольших крестьянских домиках. Поев и поговорив кое о чем, я приступил к делу: «Мне нужна лодка, товарищи, а у вас, я видел, есть».
«Есть и можете взять, если вам она нужна», - ответили оба.
Я поблагодарил и уехал. На другой день я послал за лодкой пару лошадей и ее привезли. Как же пригодилась потом нам эта лодка! Она была недели три единственным транспортом, связывающим нас с другим берегом реки Опша.
Весна 1942 года в этих местах была на редкость дружная и теплая, с сильными и теплыми дождями. Речка Опша стала бурной рекой, разливалась широко. Теперь всех больных нам перевозили только в лодке.
Бледные, худые как скелеты, с кровавым поносом, выгружались из машин больные солдаты. Их клали в лодку, перевозили к нам, а там уже мы на носилках переносили их в санитарное отделение. Армия таяла на моих глазах.
Катастрофа уже была у порога.
Далеко от нас, в самом горле нашего «мешка», стоял кавалерийский корпус Белова. Зимой через Дунаево часто проходил конный обоз «хозяйство Соколова», как называли этот транспорт, он и питал этот корпус.
В марте в одной из деревень проводилось армейское совещание госпиталей. На этом совещании были и медицинские работники корпуса Белова.
А в конце июня немцы сбросили листовки: «Корпус Белова разбит и уничтожен, вас ждет такая же участь, сдавайтесь. Мы наступаем и вам не устоять».
До боли обидно было читать эту листовку, враг высокомерно обрекал нас на разгром. Но что было обиднее всего, так то, что хвастовство врага не было простым запугиванием.
Враг видел нашу слабость. Что им стоит смять нашу полумертвую армию, когда он громил кадровые наши армии, окружал, брал сотни тысяч в плен!
За все время я не видел днем ни одного нашего самолета. Тогда как «Мессершмитт» все время висел над нами. Иногда появлялось пять-шесть самолетов, снижались друг за другом и беспрерывно обстреливали из пулеметов одиноких солдат, бредущих по дороге. Однажды я шел полем вместе с санитаром Павлом Темниковым, вдруг, откуда-то вынырнул проклятый «Мессершмитт», пролетел низко над нами и летчик сбросил какой-то маленький предмет, который воткнулся в снег. Павлуша кинулся туда, куда упал предмет и вскоре вернулся с сияющим радостным лицом, неся в руках пол литра водки, чуть неполную. Летчик, по-видимому, сам был пьян и хотел позабавиться над нами.
«Не пей, может быть отравлена», - вскричал я санитару. Не успел…
«Что вы, товарищ комиссар, разве можно!»
Жидкость уже булькала в горле Павла. Он её выпил одним духом.
«Ну вот, товарищ комиссар, не отравлена.»
Через восемь лет после этого, товарищ Павла, находясь в Ирбитском госпитале, где я читал больным лекцию, рассказал мне, как умирал Павел Темников.
«Пуля попала ему в грудь, Павел упал, потом вскочил на колено, взял винтовку и стрелял по наступающей немецкой пехоте. Вторая пуля попала в грудь, Павел снова упал, потом со страшной силой он начал рыть руками землю, хрипел, комья земли летели из-под рук на несколько метров. Затем он опять встал на колено и, закричав страшным голосом, свалился в вырытую им яму и умер». Вот такая история…
Сегодня у нас гость – это начальник тыла бронетанковых войск инженер Колесса. Он нам знаком, лежал в нашем госпитале еще в Дарьино. Колесса мне не нравился, почему-то он таскал с собой папку своих биографических данных, справку о месте работы. Различные справки о благонадежности инженера Колессы были даже за 1919 год. «Недаром человек носит такую уйму документов, - думал, я,- по-видимому, совесть не чиста». Впоследствии инженер Колесса добровольно сдался в плен к немцам.
Сегодня, увидев меня, Колесса так и расплылся в утончённо-подхамлимской улыбке.
«Тридцать пять новеньких танков привел в вашу армию, товарищ комиссар, – встретил меня Колесса.
«А горючее есть?» – спросил я.
«Горючего-то мало, товарищ комиссар.»
«Что же тогда делать с танками? Зачем они нам без горючего?»
«А мы, товарищ комиссар, в землю зарыли их, в дзоты их превратили.»
«А в каком месте вы их закопали?»
«У «Разбойной», товарищ комиссар».
«Вот они там будут стоять, а немцы-то на «Разбойную» и не пойдут?», - возражал я.
Так и получилось. Немцы обошли закопанные танки.
Глава 6. Наша трагедия.
Приближался июль. Стояла прекрасная летняя погода. После обильных проливных дождей трава по берегам реки Опши была уже почти по грудь человеку. Скудные посевы Дунаевского колхоза сулили хороший урожай. Солнце грело досыта наполненную дождями землю, и над полями и лугами стояла прозрачная пелена воспарения. Птицы весело щебетали в уреме речки, и жаворонок пел свою солнечную песню. На лугах мирно паслись коровы колхозников, ничто не напоминало о близости фронта, а он был в 10-12 километрах от этих «мирных мест». Редко-редко иногда прогремит орудийный выстрел, прострочит пулеметная очередь, и снова тихо на фронте.
Утро 2 июня 1942 года было необычным. С восходом солнца в воздухе появились немецкие самолеты - одиночки. Они сразу же «повисли» в воздухе, контролируя определенные участки. Один из них взял под наблюдение Дунаево, но не бомбили, это были самолеты разведчики.
В 10 часов утра артиллерийская перестрелка началась по всему фронту, фронт глухо стонал и урчал каким-то особенным урчанием, то ослабевая, то снова усиливаясь. Это работало стрелковое оружие. Вскоре из санитарного отдела прибыл нарочный с приказанием погрузить все имущество госпиталя, и двинутся к санитарному отделу вперед к горловине нашего злополучного фронта. Меня это крайне удивило и, оставив начальника госпиталя и начальника материальной части Епифанова грузить имущество на машины, я один поехал в санитарный отдел узнать, чем вызвана такая несуразная переброска имущества госпиталя ближе к линии фронта. Назад?
Санитарный отдел помещался за деревней Шиздерево, километров за двадцать пять от Дунаево. Приехав в санитарный отдел, я нашел комиссара отдела, товарища Ермакова, и спросил его, зачем им потребовалось перевозить наш госпиталь ближе к линии фронта. Ермаков был сильно расстроен и опечален.
«Знаешь, товарищ Пичугин, - заговорил Ермаков, - немцы наступают и уже заняли все наши главные позиции. Еще вчера командующий армией предложил нам перевести госпиталь в центр нашей главной обороны у «Разбойной» и там отсидеться, пока подоспеет помощь. А сегодня я получил иное распоряжение. Чтобы госпиталь двинуть назад, в тыл, к Нелидово. То есть выйти из этого «мешка» пока не поздно.»
«А немцы не перехватили нам дорогу между Белым и Оленино?» - спросил я.
«Кажется, еще нет, но будьте осторожны, надо спасти раненых.»
Я потряс руку Ермакову и быстро вышел из избы.
Ермаков догнал меня в сенях, схватил обе мои руки, затем крепко обнял и поцеловал. Я удивленно смотрел на него, поражаясь такому порыву, а он глядел на меня и слезы текли у него по щекам.
Я понял все… Горло нашего «мешка» - Оленино - Белый закупорено. Мы в огромном завязанном «мешке», потому-то немцы и не торопятся, они знают, что наша голодная армия не сможет прожить и десяти дней. Почему Ермаков посылает нас в Нелидово, если путь перехвачен немцами? Потому что он ещё не верит этому и дал нам право попытать своё счастье, авось проскочим как либо.
Я сел в кабину машины, и мы поехали обратно, встречать свой госпиталь, который теперь уже ехал нам на встречу. Отъехав три километра, я увидел, насколько хватал глаз, идущие от фронта в сторону Дунаево наши отступающие войска. Шла пехота, артиллерия, конная часть. Вереницей шли обозы, а кругом было почти что тихо. Редкая артиллерийская стрельба, жужжат самолеты, редкие пулеметные очереди, и всё.
Наша армия расползалась, как гнилая рогожа, без системы, без руководства, а немцы, покуривая трубочки и сигареты, погоняли нас, как пастух стадо. Войска шли к горловине, не понимая, что немцы в первую очередь "завязали" нам злополучный «мешок».
Госпиталь я встретил на половине пути и передал приказ Пономареву, начальнику госпиталя, двигаться обратно. Пономарев горячился, кричал, что и опасности никакой нет, просто паника.
Конечно, госпиталь повернули обратно.
Приехав в Дунаево, я созвал совещание всего нашего командного состава. Совещание проводили на улице под деревьями. Самолет противника летал беспрерывно взад и вперед над деревней. На совещании я обратился с просьбой ко всем, постараться как можно быстрее погрузить больных, имущество госпиталя и немедленно, не теряя и минуты, двинуться к Нелидово, до которого восемьдесят километров. Я прямо сказал, что они едут в опасный путь, возможно немцы уже перехватили нам там дорогу, но выхода нет, надо рисковать.
Больных мы погрузили не только на машины, но и на крестьянские подводы, которые с большим трудом, но все же удалось мобилизовать у них под угрозой расстрела. Имущество госпиталя оставалось в Дунаево.
Мы вместе с начальником госпиталя решили сначала отправить больных, а потом вернуться за оставшимся имуществом.
Я остался в Дунаево, охранять имущество. Отступающие в беспорядке отдельные части могли разграбить наш склад.
Колонны машин и обозы с больными ушли. Я остался с зав. складом и несколькими бойцами из выздоравливающей команды госпиталя. Если колонна дойдет до Нелидово завтра ночью, машины должны вернуться за оставшимся имуществом. На следующий день из Нелидово стало видно движение немецких войск в районе Шиздерево.
Выздоравливающая команда имела винтовки, патроны и много было разных гранат. Мы вырыли окопы за околицей деревни и поставили в них караульное отделение. Прошла тревожная ночь, я ни с кем не имел никакой связи, ничего не знал, что делается на фронте. Машины не вернулись, а через Дунаево шли и шли отдельные отряды, группы, одиночки. Несколько раз пытались ограбить наш склад, в котором было порядочно продовольствия и даже водка. На дверях мы повесили плакат «заминировано». Только это и сдерживало голодных солдат.
А часовой, что он мог сделать?
Настал третий день, как ушли наши машины и не вернулись.
В шесть часов вечера около нас разорвалось несколько легких мин, значит немцы где-то близко. Я пошел к складу, принес охапку соломы и подложил под угол склада. Если покажутся немцы, склад подожжем, думал я. В деревне не осталось ни одной живой души, все ушли в леса.
Вдруг я увидел, что по дороге шагает один из санитаров, отправившийся вместе с колонной машин. «Как он мог появиться здесь?» - думал я.
Санитар этот был принят в госпиталь недавно из выздоравливающих, и я не помнил его фамилии.
« Эй, дружок, куда пошел?» – крикнул я ему вдогонку.
Парень обернулся:
«А, это вы, товарищ комиссар».
И быстро подошел ко мне.
«Как ты оказался здесь, ведь ты уехал с колонной?»
«Да, товарищ комиссар, я был с колонной.»
«Где же теперь госпиталь? Почему ты здесь?»
«Госпиталь, товарищ комиссар, километров двенадцать отсюда, в лесочке, по дороге на Нелидово. Мы уже отъехали километров сорок, а потом вернулись. Нам солдаты сказали, что немцы перехватили дорогу. Вперёд поехал с тяжелобольными тифозными шофер Шелгочев, так и не вернулся, что с ним, не знаю.»
«Ну а ты куда пошел?»
«Я, товарищ комиссар, пошел искать свою прежнюю часть, у меня там товарищ.»
«Не ходи, парень, немцы совсем близко отсюда, попадешь к ним в плен. Лучше пойдем со мной обратно. Приведи меня, где расположен госпиталь. Паренек стоял и думал, вдруг мимо нас свистнула противно мина, другая, и разорвались метров в ста от нас за хатой, спиной к которой мы стояли.»
«Да, товарищ комиссар, немцы где-то тут рядом».
« Ну, так пошли обратно».
«Пошли, товарищ комиссар.»
Я подозвал командира моего охранного взвода и сказал ему, что я ухожу. «Через три - четыре часа придут машины, вы грузите все имущество и приезжайте вместе с ним и сами».
Взяв винтовку, патроны и мешок пищевой, я вместе с санитаром пошел разыскивать госпиталь. «Почему же, - думал я, - начальник госпиталя не известил меня и два дня стоит в лесу в двенадцати километрах от меня. Знает, что я один, что здесь имущество. Да это измена и предательство! А ведь вместе с начальником госпиталя и Епифанов, начальник материальной части, член партии с 1919 года. Что они делают?»
Епифанов и начальник госпиталя оба были из города Свердловска и как-то всегда тянулись друг к другу. Епифанов был пьяница, трус, бабник. Я два раза ставил о нём вопрос на партийном собрании. Ему дали строгий выговор. Он меня ненавидел.
Начальник госпиталя Пономарев был беспартийный, любил выпить и волочился за девчатами. Его я тоже пробирал жестоко и беспощадно. Всем им не хотелось ехать из Дунаево с больными, они боялись риска, надеялись, что немецкое наступление остановят. Они не понимали глубины нашей трагедии. При отправке Епифанов напился «в стельку» и я едва не пристрелил его сгоряча, да вмешался Пономарев. Пономарева я тоже выругал и предложил, как комиссар, выполнить мое распоряжение «для этого и комиссары, чтобы ломать вам хребет», заявил я на протест Пономарева. Словом, они уехали, озлобившись на меня.
На что же решились теперь? Они ждали спокойно конца развязки, пили госпитальный спирт и наслаждались лесным воздухом. Сообщить мне о том, что они вернулись обратно, они боялись, а вдруг комиссар пошлет снова пробивать дорогу, а вдруг комиссар заставит обороняться, если покажутся немцы? Лучше и спокойнее им было без комиссара.
Это было прямое предательство, и это я им тогда не мог простить. (И никогда не смогу. Вот уже двенадцать лет прошло, на дворе 1958 год, но я ни разу не побывал у Пономарева, хотя в Свердловске я бывал часто.)
Все это я продумал дорогой, когда шел со своим спутником в расположение госпиталя, страшная ярость кипела в моей груди против предателей, но все же я был один. За месяц до этого наших санитаров взяли в строевые части, взяли и моего старшину Усольцева, на которого я мог положиться, и теперь остались из мужчин одни шофера, а это были ненадежный народ, трусы и шкурники. Я все же решил действовать решительно.
Через два часа я был в расположении госпиталя. Горели костры, кипели чайники, многие были навеселе. В стороне был шалашик, в котором лежали Епифанов, Пономарев, известный мне инженер Колесса и какой-то старший батальонный комиссар из штаба армии. Все были подвыпивши, я сел против них на пень и тихо позвал к себе начальника госпиталя.
«Николай Александрович! – обратился я к начальнику госпиталя, - почему вы вернулись с дороги?»
« Нам сказали, что дорогу заняли немцы.»
«А сами вы видели немцев?»
« Нет, не видели.»
«Что же вы здесь решились делать?»
«Ждать, может обстановка проясниться.»
« Почему вы мне не сообщили обо всем этом? Почему? Говорите!»
Пономарев бледный с трясущимися руками стоял и молчал. Я вынул пистолет и положил себе на колени.
«Позовите Епифанова!»
Пономарев вздрогнул.
«Что вы хотите с ним сделать, Михаил Павлович?»
«Пристрелить мерзавца!»
Но Епифанов уже скрылся, и нигде его не смогли найти.
Подозвав шоферов, я приказал им немедленно разгрузить машины и гнать в Дунаево за оставшимся там имуществом. «Кто не выполнит приказание, тот будет немедленно расстрелян».
Еще не рассвело, а машины уже вернулись из Дунаево, забрав все имущество госпиталя. Все, кто мог работать, по моему приказанию вооружились лопатами, топорами и рыли огромную яму, я стоял и торопил работающих: «Живей, ребята! Живей!». Когда огромный котлован был готов, в него развернули огромную, хорошо просмоленную трофейную палатку, в неё я приказал сложить все имущество госпиталя. Все вошло в эту палатку, закопали землей и замаскировали хворостом. Затем я приказал вынуть из машин главные части с моторов и также спрятать в лесу.
Едва мы успели проделать все это, как мимо нас с грохотом промчалась наша конная батарея и развернула пушки недалеко от нас на поляне. Через полчаса батарея открыла огонь прямо через наши головы и, выпустив снарядов по десять на орудие, снялась с позиции и куда-то скрылась.
В скором времени со стороны Дунаево и с правой стороны загремела немецкая артиллерия, стрельба шла по нашему лесу, зловещими раскатами катился по лесу гул от лопающих снарядов, как скошенные, падали деревья то там, то здесь. Вдруг артиллерия прекратила огонь, и в лес вступила немецкая пехота. Немцы шли на нас, беспрерывно стреляя из автоматов и винтовок. Пули защелкали по деревьям, клочки моха и земли то там, то здесь взлетали в воздух.
Длинной цепочкой мы уходили дальше и дальше от наступающего противника.
Наша трагедия началась.
В первое время я еще не знал, что нам делать в такой обстановке. Самое первое, что пришло на ум – это добраться до большого леса: немцы в лес не пойдут, а там мы обстоятельно решим, что делать. Какой «силой» мы располагали? Я, начальник госпиталя, начальник фин. части Белов, Епифанов, писарь и тринадцать человек шоферов, остальные - женщины : врачи, сестры, санитарки и кроме этого с нами пошли человек восемьдесят выздоравливающих. Большинство - очень слабые после тифа или дизентерии. До леса было километров 8 и глубокой ночью мы вошли в лес. Прошли лесом вглубь километра 2-3 и остановились.
Наступил первый день наших скитаний.
Лес еще ранее нас оказался «густонаселенным» окруженцами, подобными нам. В глубоком овраге недалеко от нас горели костры, и дым бледным покрывалом раскинулся над оврагом. Слышался дикий визг, азиатская речь. Это были солдаты из республик Средней Азии: казахи, киргизы и прочее "пополнение". Пировали, объедались кониной пойманных в лесу разбежавшихся обозных лошадей.
К нашему отряду примкнули около 12 человек солдат конной разведки, потерявших свою часть. Все это были кадровые солдаты, молодые, здоровые ребята, хорошо вооруженные, каждый имел лошадь до отказа навьюченную различными продуктами. Командир конной разведки, старший лейтенант, здоровый краснощекий парень из Свердловска, хорошо разбирался с картой и компасом. Все они решили не расставаться с нами, вместе выходить из окружения. Я прекрасно видел, что и лейтенанта и его подчиненных «заворожили» наши молоденькие санитарки, медсестры и врачи. Многие из них были действительно красивые девчата. В первую же ночь я убедился, что все мои беседы и лекции «о моральном поведении» мало пригодились.
Но сейчас было не до этого. Вопрос стоял: что делать? Днем мы провели совещание командного состава. Командиры: старший лейтенант, начальник госпиталя и несколько лейтенантов из выздоровевших, все единодушно предлагали лесами добраться до замкнутой линии фронта и перейти её. До Нелидова от нашего месторасположения было около 90 км, расстояние не такое уж большое.
Я предложил совершенно иное, а именно найти местных партизан и остаться с ними. В душе я имел намерение найти местных партизан, организовать свой партизанский отряд и действовать в тылу врага до той поры, когда Красная Армия пойдет снова в наступление, и мы встретим ее.
Против моего предложения не возразил ни начальник госпиталя, ни остальные. Председатель райисполкома, где мы находились, и секретарь райкома были нам знакомы, они уже один раз партизанили, когда эта местность была занята немцами. Они не раз говорили, что если немцы еще раз займут район, то они снова останутся партизанить.
Следующий день я и начальник госпиталя целый день ходили по лесу, искали партизан, но никого не нашли. Между тем лес все более пополнялся стекающимися со всех сторон несчастными окруженцами. Шел слух, что какой-то генерал организует в лесу воинские части для прорыва. Мол, люди ходили, искали этого генерала, но так и не нашли.
В лесу я встретил в полном составе конную батарею во главе с командиром. Но пушки они бросили и шли пешими. Я подошел к командиру батареи, показал свои документы и даже партбилет, просил его принять нас в свою команду.
«Ведь вам врачи, сестры, санитарки пригодятся, когда будете выходить из окружения и столкнетесь с противником», - говорил я, убеждая его взять нас.
Но мне жестко и холодно отказали.
«Никогда,- думал я,- старый офицер царской армии, будучи в таком положении, не опустился бы до такой низости, чтобы отказаться от патриотов, желающих вместе с ним разделить грозную участь. Кто и как воспитал вас – кадровых офицеров?» - с горечью думал я.
По-видимому, этот майор вел батарею сдаваться в плен к врагу и я ему мешал в этом. К сожалению, впоследствии я узнал, что так оно и случилось.
Вернувшись в расположение своего госпиталя, я узнал новую неприятную новость: Епифанов и Белов скрылись и увели с собой всех шоферов. Шоферы, как оказалось, познакомились с одним солдатом из этого района, который бежал «надежно укрыться в этих лесах» возле его деревни. «Комиссар наш, - рассуждали шоферы, - не найдя партизан решит во что бы то ни стало перейти фронт, а это без жертв не обойдется». Им не хотелось больше подвергаться какой-либо опасности, лучше где-либо пересидеть это время.
Вот уже две недели как мы в окружении. Наш выход из окружения оказался гораздо сложнее, чем мы его предполагали. Хотя у нас была хорошая разведка, в лице примкнувшей к нам группы вместе с лейтенантом, но работала она из рук вон плохо. Не могли люди понять новую для них обстановку. Один раз, когда мы подошли к важному рубежу нашего перехода, я предложил командиру разведки произвести разведку днем, узнать, можно ли перейти лежащий поперек нашего пути широкий тракт. Разведка ходила в указанном направлении и, вернувшись, доложила, что немцев нет. Темной ночью мы подошли к широкому тракту и были встречены шквалом пулеметного, ружейного и минометного огня. В полном беспорядке все кинулись назад, утром мы не досчитались почти половины людей, конечно, они не могли быть все убиты, просто ночью растерялись по лесу. Пришлось нам дать обход этого места и очень далекий, там, где мы предполагали, противник меньше стережет пути к фронту, но и тут нам не повезло. Чем больше мы плутали, тем больше противник имел возможность закупорить проходы к фронту.
Однажды ночью мы набрели на минное поле, раньше в этом месте был фронт, и немцы заминировали многие места. Я шел впереди с винтовкой в руках среди порубленного леса. Сзади меня шли начальник госпиталя Пономарев, врачи женщины Хлыбова и Гросман. Тропинка огибала большой куст, а другая шла прямо, сокращая расстояние, я почему-то пошел в обход куста, а Пономарев и врачи прямой тропой. Раздался взрыв, не очень сильный, похожий на выстрел из винтовки. Я быстро встал на колено и направил дуло винтовки в сторону раздавшегося взрыва, но все было тихо, только за кустом раздались стоны и чье-то предсмертное хрипение. Бросился на место взрыва. Раненые врачи Пономарев и Гросман стонали. Начальнику госпиталя взрывом мины сильно ушибло скулы, и он еле мог говорить. Врача Гросман сильно ранило в руку, и она сильно мучалась, Хлыбовой разбило голову, и она умерла через две-три минуты. Раненого начальника госпиталя посадили на лошадь, подозвав меня, он еле промолвил:
«Дай руку, комиссар.»
Я подал руку. Пономарев прошептал:
«Я, кажется, честно выполнил свой долг, а теперь можно и умереть.»
«Бросьте, - резко возразил я, - Вас чуть царапнуло, а Вы умирать собрались, а еще врач! Пока мы не выйдем из окружения, никакого долга мы не выполнили».
Рана Пономарева действительно была пустяковая. Утром ему уже можно было есть. Бедную Хлыбову так и оставили, не похоронив. Времени не было. Надо было спешить перейти широкий тракт до рассвета, тот самый тракт, который мы пробовали перейти более недели назад, но были обстрелы и пошли искать менее опасное место.
На следующий день мы вышли на опушку леса. Перед нами было довольно большое круглое поле, окруженное лесом. В середине поля виднелись постройки какого-то поля или подсобного хозяйства. Чтобы не быть замеченными, мы углубились в лес, пошли дальше возле опушки леса.
Вдруг раздался голос, довольно громкий, от самой опушки леса: «Эй, иди сюда, эй, иди сюда!». И так повторялось много раз. В интонации голоса было что-то не наше, не славянское, не русское.
«Это немцы», -шепнул мне лейтенант, начальник разведки. Я подозвал к себе одного разведчика, старшину, по национальности узбека. «Слушай, старшина, подойди тихонько к опушке и узнай, кто кричит, если немцы, дай по ним из автомата и беги сюда». Старшина ушел. Начальник госпиталя Пономарев, раненый вчера, поехал на лошади сзади метрах в двухстах с тремя бойцами разведки, хорошо вооруженными. Не прошло и двадцати минут, как старшина узбек, бледный, трясущийся бежал к нам.
«Беда, товарищ комиссар, немцы захватили в плен начальника госпиталя и его конвой.
«А ты что делал в это время, почему не стрелял!» - кричал я.
«Струсил, товарищ комиссар, я. Немцев было много».
«Эх, ты вояка, а еще автомат прицепил. Кто вас воспитывал, таких трусов, - горячился я, – но, начальника госпиталя ты видел, как брали в плен? Почему он не стрелял, ведь с ним был его пистолет!»
«Он им не сопротивлялся и отдал им пистолет.»
Я сильно выругался и приказал идти дальше вперед.
Длинной цепочкой мы двигались лесом и вскоре вышли на обширное болото, по карте, взятой мной ранее при «визите» в штаб армии. Оно именовалось «Плутово» болото. Вскоре позади нас, довольно близко, загремели автоматы и винтовки.
По-видимому, Пономарев рассказал о нас немцам, и они решили нас преследовать. Но немцы тоже, по-видимому, не располагали большими силами и скоро прекратили преследование.
«Настала священная брань на врагов
и в битву помчала Урала сынов»
И вновь встают перед моим внутренним взором картины тех боёв, победы и просчёты, разговоры и поступки. Все, кого я видел и знал - от высоких командиров до простых солдат и медработников.
И вновь задаюсь я вопросом:
- Почему? И горестно поникаю седой головой. Ржевский котёл... Что послужило причиной разгрома? И вновь перебираю всё, что видел и знал, в чём принимал непосредственное участие. Наша трагедия началась 2 июля 1942 года. То, что не смогли сломить танки и пушки, сломили голод и болезни, недостатки организации военной страды и отсутствие дисциплины.
Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять, это неверно. Судить можно и нужно, критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и самих победителей. «Меньше будет зазнайства, больше будет скромности» (Сталин). Есть виновные и в катастрофе, постигшей нашу армию.
Во-первых, почему командующий тылом армии, генерал-майор Коньков, не принял мер, чтобы построить дорогу в зимний период, чтобы не было голода в армии, чтобы достало боеприпасов. Были ведь время, силы и материалы.
Во вторых, есть и виновные в том, что упорно не видели приближающейся линии фронта, за все это дорого пришлось поплатиться, тысячи погибших и тысячи попали в позорный плен к врагу.
В третьих, кто ответит за полную дезорганизацию и моральное разложение наших бойцов, уже не способных полноценно сражаться, за отсутствие плана вывода войск из окружения, за отсутствие достойного командного состава, чтобы этот вывод осуществить, организуя солдатские массы. Дух коллективизма или даже армейской дисциплины как бы исчез, пропал, уступив место слепой панике и отчаянию. Даже сам командарм уходил из окружения только со своим штабом, никого не беря с собой, никому не дозволяя присоединяться к их отряду. Отдельные отряды и сборные команды «окруженцев», по сути, были брошены командованием на произвол судьбы. Оттого и такие потери.
Но я продолжаю перебирать свои горькие воспоминания военных лет…
«Я убит подо Ржевом»... стихи русского поэта Александра Твардовского, написанные в 1945 году.
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дна, ни покрышки.
***
Летом горького года
Я убит. Для меня -
Ни известий, ни сводок
После этого дня.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю -
Наш ли Ржев наконец?
***
Мы - что кочка, что камень,
Даже глуше, темней.
Наша вечная память -
Кто завидует ей?
***
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Я убит подо Ржевом,
Тот - еще под Москвой...
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?!
Часть 2. Плен, побег и поиски партизан.
Глава 1. Пытаемся пробраться к своим
Итак, я продолжаю свой печальный рассказ о наших попытках вырваться из окружения.
«Плутово болото», так было видно по карте. «Плутово болото» очень большое, километра четыре в поперечнике и более восьми километров в длину. Через болото прорыты канавы для осушения, рос мелкий, редкий сосняк. Были отдельные возвышенности, островки, поросшие высоким хвойным лесом. Решили сделать привал и немного отдохнуть. Развели огонь, вскипятили воды, была еще крупа и макароны. Сварили кашу, поели, и после чего поспали часа три.
Проснувшись вскоре, мы увидели, что к нам шла довольно большая группа бойцов - красноармейцев. Многие с оружием и с двумя ручными пулеметами. Это была сборная команда, командира не было, люди с разных частей брели, куда глаза глядят, многие шатались от голода и усталости. Сошлись они по дороге в большую группу случайно, по пословице «на людях и смерть красна», не имели ни карты, ни понятия куда идти, чтобы выбраться из окружения. Ребята стали просить меня, чтобы я принял их в свою команду. После некоторых переговоров, я согласился принять их с условием, что все они беспрекословно будут выполнять мои приказания. И выполнять все приказания командиров взвода и отделений, поставленных мной на командование над ними.
Я решил создать из всего нашего отряда, теперь уже более ста человек, взвод и отделения. Все согласились, я дал распоряжение им также отдохнуть и сварить себе обед, у кого что есть. Когда все поели, я подозвал к себе обоих пулеметчиков и сказал, чтобы поставили пулеметы несколько подальше, один вперед, а другой позади, чтобы на нас не напали враги. Пять человек поставил наблюдать кругом нашего лагеря, а остальным велел спать.
Мои люди, санитарки и сестры и больные госпиталя, уже проснулись и окружили меня, они радовались нашему пополнению, да еще и вооруженному, но мне было невесело, какое-то предчувствие нашло на меня.
Я понимал, что эти люди, случайно сошедшиеся в лесу, не связанны узами боевого товарищества, что они - непрочная опора. Надо время и много труда, чтобы сковать из них крепкий боевой коллектив, а сейчас они могут разбежаться «кто куда» при первом же выстреле со стороны противника.
Как они и делали уже много раз за время их скитания в окружении.
О чем они сами рассказывали мне.
И как оно в дальнейшем и получилось.
Прислонившись к дереву, я думал о том, что надо делать дальше. Легкий свист недалеко от лагеря привлек мое внимание, я прислушался, снова легкий свист, и где-то дальше в лесу ответный свист. Кто-то балуется, решил я и успокоился. Через некоторое время свист снова повторился и в ответ свист....
«Пойди и немедленно приведи ко мне свистуна», - обратился я к одному бойцу. Тот встал и пошел в ту сторону, где раздался свист.
«Хэндихох!» - рявкнули совсем близко из гущи леса, оттуда, куда пошел мой посыльный, и треск автоматов резанул лесную тишь. Пули с визгом защелкали, ударялись в деревья. Вот мой сброд кинулся кто куда в противоположную от выстрелов сторону.
Пример паники заразителен, за всеми остальными драпанули и мои бедные сестрички, санитарки, больные.
«Хэндихох!» - орали немцы, наступая и поливая автоматным огнем чащу леса.
«Ложись, сволочи! Огонь!» - бешено орал я своему удиравшему войску.
« Где пулеметчики! Огонь!»
Но их и след простыл...
Надо задержать врага, во что бы то ни стало!
И, упав за дерево, я бешено нажимал на спуск СВТ. Грохот винтовки сильнее в несколько раз автоматной стрельбы, а особенно в лесу. Немцев было немного, они тоже боялись, поэтому быстро залегли. Я выпускал обойму за обоймой, мое разбежавшееся войско, боясь в лесу друг друга, удирали друг от друга: каждый думал, что за ними гонятся немцы. Открылась беспорядочная стрельба, загрохотал весь лес позади меня, и это все же спасло меня.
Прекратив преследование, немцы повернули назад, стреляя время от времени. Встав, я увидел возле себя безоружных из состава следовавших со мной больных.
«А вы что же не удрали? Чего ждете?» - с бешенством заорал я на моих преданных бойцов.
«Куда мы от вас, товарищ комиссар. Уж помирать так вместе".
«Не помирать, а стрелять надо!»
«Чем же стрелять, товарищ комиссар? Ведь мы безоружные».
«Да разве мало винтовок этот святой сброд оставил!»
Недалеко, позади меня валялось несколько винтовок.
«А ведь верно! Как же мы не видели!» - горестно вздохнули мои герои, и пошли за винтовками. Сосчитал свои патроны – было 620, осталось 44. Патронов мои беглецы не бросили, некогда, по-видимому, было им расстегивать пояса.
«Хоть бы одну какую сволочь убили немцы, - думал я, - все же были бы тогда патроны!»
« Что делать?»
«Пойдем, мои храбрые воины, искать теперь своих по лесу, собирать всех в кучку, двигаться дальше».
И мы пошли на поиски без вести драпавших.
Дело шло к вечеру, а мы все еще бродили по лесу в поисках своих разбежавшихся людей. Теперь нас осталось трое. Но эти двое бойцов, оставшиеся со мной, были для меня дороже всех остальных. Одному было лет 38, другому – 50 лет. Оба были в зимнем наступлении и традиции боевых уральских дивизий в них сохранились. Все же они - безоружные - не поддавались общей панике. Они остались со мной в опасную минуту, готовые разделить мою участь. «Значит чувства товарищества в них сильнее чувства смерти», - думал я. В поисках по лесу мы все же нашли брошенные кем-то 80 штук патронов и теперь все трое имели по 40 патронов, а у меня даже 44.
К ночи мы выбрали хороший остров на болоте, покрытый густым лесом. Развели огонёк, поели и расположились ночевать, чтобы завтра утром возобновить поиски.
Следующий день мы уделили поискам своих. Из всех разбежавшихся удалось встретить только пять человек и шестого примкнувшего к нам старшего лейтенанта Павличенко. Знакомого мне тем, что он когда-то лечился в нашем госпитале. Итак, нас стало девять человек. Многие почти ничего не ели уже пять дней, питались грибами и кислицей. Это кислая, невысокая трава с тремя листиками, растет в хвойных лесах. Сделали привал. Павличенко варит собранные в пути грибы и кислицу, один жует зерна ржи, еще не спелой. Каждый занят тяжелой думой.
«Не лучше ли нам остаться здесь и перейти на партизанскую борьбу, - говорит Павличенко, - я весь прошлый год, когда попал в окружение, партизанил, а потом соединились с Красной Армией».
«В таком случае, - говорю я, - надо отойти дальше в тыл врага и там начать формирование отряда, а здесь все кипит немцами, все деревни заняты ими».
«Нет, не хочется уходить дальше! Попытаемся еще раз пробиться через фронт к своим. До Нелидово ведь не больше 80 км, а там свои».
«Да, надо еще раз попытаться, - говорю я, - сегодня же ночью перейдем шлях и пойдем лесами до Нелидово».
Глухая и темная ночь в лесу. Идем почти ощупью друг за другом. Время от времени смотрю на светящуюся стрелку компаса. Кажется, идем правильно. Справа речка, она идет мимо деревни Плутово. Мы должны перейти шоссе в 500 метрах от деревни. Перейдя шоссе, лес кончится, будет поле и мы должны пройти километра два полем с небольшими перелесками, а дальше сплошной лес до фронта. Так по карте…
К полночи вышли на довольно большую поляну вырубленного леса с одиноко торчащими соснами. Шагаем осторожно по кем-то проложенной тропинке, но все же, нет-нет, да и хрустнет где-то сучек под чьей-либо неосторожной ногой. По обеим сторонам тропинки много оставленных порубщиками вершин и сучьев. Идем «гуськом», я впереди. Шагнув еще несколько шагов, остановился, под ногами чуть видна бровка дорожной канавы или «кювета».
«Шоссе», - тихо шепнул я, обернувшись к товарищам.
Вдруг грянул выстрел так близко, что пламя выстрела коснулось лица.
«Назад! В цепь ложись», - громко подал команду. Все быстро залегли.
Взвилась ракета, другая, ярко освещая поляну. Сильный пулеметный огонь, огонь автоматов и винтовок обрушился на нас. Стреляли спереди из-за дороги, с левой стороны и сзади. Вправо за речкой чистое поле и видны немецкие окопы, оттуда и стреляли. Враг рассчитывал, что мы бросимся именно туда. А на чистом поле нас легко расстреляет засевшая там группа противника.
Мы попали в ловушку. Выход один – прорваться вперед через шоссе, и пользуясь темнотой ночи, идти. Для этого надо подавить огонь противника впереди нас. Мысль работает в такие минуты лихорадочно быстро.
«Огонь!» - кричу товарищам и разряжаю обойму по невидимому врагу.
Редко стучат наши выстрелы, мало нас. Мало и патронов. Мои два товарища залегли вправо от меня, всего в 3-4 метрах. Группа во главе с Павличенко кинулась прочь от засады, через речку на чистое поле. Выскочила на бугор и в упор была расстреляна засевшими там немцами. Стоны умирающих долетали до нас.
«Глупо сделал Павличенко, -думал я,- а еще кадровый офицер».
Глухо ухнула мина, другая, гром разрывов потрясал лесную тишь, наполняя ревущим гулом весь лес. Земля фонтаном поднималась кверху и падала, засыпая нас. Больше часа длилась перестрелка, и как ни редко мы стреляли, но патроны оказались уже на исходе. Немцы бьют беспрерывно, но бояться подползать ближе, да и на что им это. Они не знают наши силы и ждут рассвета, когда все будет кончено с нами.
«Я ранен», - тихо шепнул мой товарищ рядом со мной.
Пополз к нему, разрывная пуля выдернула у него весь мускул правой руки. Перевязал, но кровь идет не переставая. Пользуясь тем, что мы прекратили огонь, немцы подползли близко к шоссе и стреляли прямо в упор. Спасала нас пока только темнота.
Стреляю снова по близко подобравшимсянемцам. Те уползают обратно в окоп. Другой мой товарищ прекратил огонь и хрипит… храпит?
«Неужели спит? Можно ли спать в такое время?»
Подбегая, дергаю его за ногу, может за руку, она холодная, он умирал.
« И никто не будет знать, где ты погиб, да и мой конец близок», - думал я.
Резкий удар в левую ногу прервал мои мысли, по телу прошла неприятная дрожь. Я ранен в ногу, посмотреть нет возможности. Сапог наполнялся клейкой густой жидкостью. Пошевелил ногой, слушается - значит кость не перебита. Можно еще встать и пойти. Куда? Прямо под пули врага.
Огонь врага усилился, нет возможности поднять голову. Свинцовый дождь косит траву и сучья над головой. Снова стреляю, надо дать понять врагу, что мы еще может сопротивляться. Выхода нет, скоро все будет кончено, мысль работает сильно, напряженно.
Что делать с партбилетом? Если мой попадет в руки врага, там моя фотография, по уплате членских видно, что я не рядовой боец. Я знаю коварство и хитрость врага. Мою фотографию могут поместить в листовку: «Комиссар такой-то попался в плен и призывает сдаваться» И прочую клевету! Враг не раз вытворял подобное.
Кто будет знать о моей гибели? Никто. Меня заклеймят изменником Родины, моим детям вечный позор на всю жизнь, меня проклянут и они, и Родина.
«Нет! - кричу я себе, - «к черту всё и всякие инструкции! Я не допущу этого, уйду из жизни как без вести пропавший, но не опозоренный!» Я глубоко сунул руку с партбилетом в лесную рыхлую почву, все глубже и глубже. Все! Теперь надо умирать…
Наставил винтовку концом ствола под подбородок, правой рукой потянулся к спуску.
Почему-то глаза повернули в сторону… на лежащую передо мной вершину срубленного дерева. А из-за сучьев вершины на меня глядит мой сынишка Вовка, маленького роста, плотный, круглое загорелое личико, смеющиеся глаза, и слышу его шепот: «Папка! Что делаешь, такая мать?». Ругательство, которое я никогда не слышал от него.
Рука опустилась, коснувшись спуска затвора. Какой-то стыд охватил все мое существо, стыд за позорное бегство из жизни.
И не помня себя, я встал на ноги.
Свист пуль, грохот рвущихся мин, ослепительные вспышки выстрелов, как это ни удивительно, не напугало меня, а очаровали своей страшной музыкой.
«Вперед!» - беззвучно кричу я себе.
Или прорвусь, или погибну. Нога.., она не имеет права не слушаться. Поднял винтовку, выстрелил два раза и кинулся вперед через шоссе.
Смерть или свобода! Страшный блеск и пламя, казалось выжгли мои глаза. Сильным молотом ударили по голове. Горячая пыль плотно забила рот. Огненный вихрь закружил меня, я стремительно полетел куда-то в бездонную пропасть.
Мина, разорвавшись рядом, оглушила меня.
Я видел перед собой огромную, черную, бездонную яму. От нее меня отделяет 3-4 метра. Кто-то сильно толкает и катит меня к этой яме… Я ужасно не хочу туда падать. Кричу, но вместо крика слабый стон. Напрягая все силы, цепляюсь руками за траву, за землю, делая отчаянные усилия откинуться назад от страшной пропасти...
… Я раскрыл глаза. Солнце светило в лицо, передо мной стояла группа немцев. Поставили винтовки к ноге и смотрят на меня ничего не говорящими оловянными глазами. Офицер стоит сбоку, направив на меня автомат, рука его слегка дрожит. Четыре красноармейца стоят с лопатами и в гимнастерках без ремней. Грязные, немытые. Один нагнувшись, очистил мое лицо и рот от набившейся земли.
«Что это такое, -думал я,- где я и что со мной?»
И вдруг - все вспомнилось! И меня оглушило страшное, смертельное отчаяние.
Я не умер, я в плену.
Глава 2. Я попал в плен.
« Что это такое», - думал я, - где я и что со мной?»
И вдруг все вспомнилось, и меня охватил смертельный страх.
Я не умер, я в плену!
«Лус, лук вверх!» - негромко сказал офицер. Я вздрогнул, попытался встать, но едва поднял голову. Подошли красноармейцы и поставили меня на ноги. Офицер показал рукой на кусты, и один красноармеец подошел вскоре с моей пилоткой.
Мы встретились глазами с немецким офицером, я не заметил в них злобы или зверства, он глядел на меня, не моргая, с чуть заметным любопытством.
«Лус! Зачем стреляй?» - ломая русский язык, сказал офицер.
« Я солдат и хотел умереть как солдат!» - ответил я, глядя на него.
« Ты старий зольдат», - тыча пальцем, говорил офицер.
« Старый солдат», - промолвил я.
« С Кайзер воевал?»
«Я воевал против немцев в 1914-1917годах.»
Так мы стояли, два врага, глядя друг на друга. Оба седые, как лунь.
«Ми старий зольдат. За Кайзер воевал», - ткнул он себя пальцем в грудь и махнул рукой пленным красноармейцам, чтобы увели меня.
Пленные вели пленного, немцы шагали сзади. Присохшая к ране штанина вызвала мучительную боль, контуженная голова болела нестерпимо, я шел как во сне. Скоро пришли на какую-то заимку с большими сараями и хлевами, битком набитыми пленными красноармейцами. Нас завели в один сарай и оставили.
Первое, что необходимо, это осмотреть и перевязать рану. Снял сапог, рана широкая, пуля, пройдя, по-видимому, сквозь дерево, ударила в ногу и застряла в ноге ниже колена. У меня имелся бинт, и я перевязал себе ногу. Подошел полицейский из русских, пленный солдат. Изменник только что вступил в свою новую роль предателя, и не имел еще палки и хлыста. Стыдился своего «ремесла» и немного краснел. Сказал, чтобы я пил чай и завтракал, «а потом пойдешь на допрос, так офицер приказал».
«А ты что, вместо чая русскую кровь хотел пить?» - злобно ответил я. «Думаешь, нас побили, так все пропало теперь?
Хватит сил в России, разобьют немцев и до тебя доберутся, сволочь несчастная. Наверное, и в семилетке ещё учился!»
Полицейский испуганно отмахнулся. Покраснев, и ничего не сказав, отошел. Меня окружили пленные.
«Ты, старик, потише», - проговорил молоденький белобрысый паренек, - за эту брань, если он пожалуется офицеру, могут расстрелять и тебя и нас, у немцев рука не дрогнет».
«Да, расстреляют и вас, если вы будете толпиться возле меня. Разойдитесь пока, лучше будет для вас.»
Пленные отошли. На кухне мне дали кружку горячей воды и кусок хлеба. Все же поел и несколько оживился.
«Строиться!» - зычно раздалась команда. Из сараев, хлевов, шли пленные солдаты и становились в строй.
«Авось избавлюсь от допроса», - подумал я и встал в строй вместе с другими. Нога… Не могу идти, отстану… А и пусть пристрелят, мне все равно.
«Шагом марш!», и колонна двинулась в путь. Солнце начинало горячо припекать. Шагали молча, опустив глаза в землю.
« Я вас знаю!» - шепчет рядом солдат, сильный загорелый татарин.
«Ну, хорошо, - прошептал я, - доложи об этом немцам и тебя наградят, а может еще и в полицию возьмут, и проживешь припеваючи!»
Солдат покраснел и обидчиво прошептал:
«Бросьте, товарищ комиссар. Как вам не стыдно обижать меня, никогда я не буду предателем, пусть на куски режут. Вам трудно шагать? Опирайтесь на мое плечо.»
«Прости, - тихо промолвил я, - знаешь, нервы не в порядке.»
«Ничего, - примирительно прошептал мой спутник, - так я советским человеком и останусь навсегда.»
В следующей деревне, километрах в шести, нас ожидала огромная многочисленная толпа пленных. Шириной в три метра ползет наша колонна по пескам родной земли, ни звука, ни крика, гробовая тишина. По сторонам, метрах в 25-и, редкой цепью шагает немецкий конвой.
...В романе «Радуга» Ванда Василевская описывает шествие русских пленных. Я не хочу обвинять ее в несправедливости, но наша колонна в то время представляла собой иное. И вот почему.
Ржевский котёл. Люди только что попали в плен.
Одни, истощённые скитаниями по лесам, покинутые командирами, безразличные уже ко всему, подняли руки и сдались врагу.
Другие, расстреляв все патроны, не смогли избежать участи пленения, окруженные врагами.
Порохом недавних боев еще пахло над колонной, физически бойцы были еще крепки. Шли злобно, всё и вся ненавидя, проклиная.
Шли, с презрением к самим себе безучастные ко всему. И к своей жизни тоже.
Видел, чувствовал это и немецкий конвой. Боялись подходить близко, не пристреливали отстающих. Слабых колонна несла с собой.
Когда голод изводит мозг и сердце, то измена и предательство как червь разъедают боевое товарищество. Палка и кнут, застенок гестапо, издевательства, холод и голод, каторжная работа, бессонные ночи, ежедневные расстрелы могут сотворить из людей безумных, безвольных, бессильных существ, потерявших человеческое достоинство и облик.
Но пока это шли люди!
Шагаем по большой, длинной деревне. Немцы празднуют победу. Женщинам и девушкам приказано надеть лучшие платья. Разрешили всем деревенским смотреть на нас и давать, у кого, что есть из продуктов.
«Смотрите! Мы, немцы, сильны и великодушны».
И вот русские женщины и девушки стоят у дороги, кто с хлебом, кто с молоком, картошкой для нас. Сколько безумной, жгучей скорби и жалости к нам в глазах этих русских женщин и девушек, и как до ужаса больно сердцу от этих устремленных на нас полных слез глаз.
Нет, не этого нам хотелось сейчас, не слез, не жалости. Пусть бы прилетели наши самолеты, покрыли бомбами небо над нами, обрушили тысячи тонн смертельного груза на наши головы, смешали бы наши кости с родной русской землей!
(Впоследствии я видел такую картину в лагере военнопленных во Ржеве. Более тысячи пленных стояло в очереди у кухонных котлов, дожидаясь нескольких ложек «баланды».
Начиналось наступление наших войск на Ржев. Тяжелая советская артиллерия била по Ржеву. Снаряды залетали и в лагерь военнопленных. Два снаряда упали в гущу людей, стоявших у кухни, более 300 человек было убито и ранено. Но ни один из оставшихся в живых не жалел убитых, каждый завидовал их участи.
Они погибли от металла нашей родной земли, от снарядов, сделанных милыми руками родных людей. Снарядов, избавивших военнопленных от мук голода и позора. Так думал каждый. И на месте погибших моментально столпились другие. Но смерть больше не пришла. Снаряды сюда больше не падали.)
... Колонна пленных вползала на середину деревни. У красивого домика с затейливыми наличниками и резным крылечком на улицу стояла кучка немецких офицеров с огромными орлами на фуражках.
Сытые, самодовольные.
Толстая, нарядная, с подведенными бровями, ярко накрашенная женщина явно немецкого обладания, подперев бедра пухлыми белыми руками, нахально уставила на нас глаза и вдруг звонко и злобно заголосила: «Что, попались голубчики? Коммунисты окаянные, довоевались! Попили нашей крови при советской власти. Вот теперь и сдыхайте, как собаки, а мы теперь заживём при немцах. Погуляем!»
И она закрутилась, в издёвке приплясывая.
Как страшный удар бича хлестнул каждого в самое его больное место! Как уголь почернели глаза и перекосились лица многоликой толпы, тысячи голосов рявкнули смертельно раненым зверем: «Сволочь! Гадина! Немецкая подстилка! Продажная тварь!».
Гневно полетели прочь куски хлеба, картошки, кувшины с молоком, принятые от сердобольных советских женщин. Всё, что падало на землю, яростно топтали ногами. Сжав кулаки, толпа подалась к крылечку дома. Офицеры и эта накрашенная женщина в ужасе метнулись в избу. Деревенские, кто был на улице, кинулись прочь, кто куда.
Грянул залп, другой. Живые стояли тесно и не давали падать мертвым. Спеша, из сарая тащили пулеметы жандармы. Свинцовый ветер зашевелил волосы колонны, но бить по колонне немцы боялись, 10000 не расстрелять сразу. Через минуту колонна шагала дальше, оставив убитых в дорожной пыли.
«Ешь и пей их кровь!» – проходя, кричали пленные, грозя кулаками.
«Презренная, продажная гадина, оскорбившая не нас, а нашу мать - Родину!»
Вечером подошли к станции Оленино, где был большой временный лагерь для пленных. Меня, как раненого, направили в «госпиталь». Это был открытый всем ветрам огромный навес, где раньше держали сено. Там были сделаны нары из тонких жердей в три ряда. Друг над другом. Перекладины каждого ряда были привязаны тонкой проволокой к стойкам. Ложиться на такие нары очень опасно, и я лег на землю возле стойки. Огромная новая шинель, захваченная мной в лесу во время моих скитаний, спасала от холода.
И верно, случилось то, чего я опасался. Ночью верхние нары не выдержали тяжести раненных и рухнули вниз. Второй ярус нар также обломился. Всё смешалось в диком вопле.
Стоны и крики раненых раздавались до рассвета. Когда рассвело, на месте катастрофы лежала груда мертвых тел. Тела были совершенно голые, страшные своей мертвенной белизной: с них за ночь все стащили живые. Казалось, что это какая-то особая дьявольская заготовка человеческого мяса. Таков был «госпиталь».
Нога моя болела, рана загноилась, начиналось воспаление. Я понимал, что надо извлечь пулю из ноги, иначе погибну от заражения крови. Направился в «амбулаторию – сарай», где было около десятка пленных русских врачей. Войдя к ним, я многих признал, вместе были на армейских совещаниях, но меня не узнал ни один, так я изменился за это время скитаний в окружении.
«Товарищи! - обратился я к врачам, - выньте пулю из ноги.»
Осмотрели рану. Старый врач обратился к остальным:
«Попрактикуйте кто-нибудь над ним. Есть бритва и ножницы, разрежьте рану и ножницами извлеките пулю.»
« Как же наркоз?» - возразил один молодой врач.
« Пустяки, - промолвил я, - режь, как тебе надо, вынимай хоть пальцами.»
И лег книзу лицом, стиснув зубы. Хирург резал бритвой, ковырял ножницами в ране… и все же извлек пулю. Промыл и перевязал рану.
« Молодец, терпеливый. Мне даже казалось, что я резал не живого, а мертвого человека. А теперь все пойдет хорошо.»
Глава 3. В лагере.
В плену я пробыл всего сорок пять дней и писать об этом пребывании почти нечего. Голодовка, палка и плеть, масса умирающих ежедневно, обычное дело для пленных во всех фашистских лагерях.
Вместе со многими другими военнопленными я попал в город Оршу (Ст.Червино). Там было два небольших лагеря недалеко друг от друга. Мы заняли пустовавшие бараки и было просторно.
Попытаюсь описать это место.
Кругом лагеря обнесена загородь из колючей проволоки высотой в два метра. Далее через пять метров - такая же, а между этими двумя рядами обычные проволочные заграждения. По углам лагеря стоят вышки, где сидят с пулемётами по два немца на каждой. По земле от угла до половины лагеря ходят патрули снаружи лагеря. Внутри лагеря патрули ходят только по ночам между бараками. Такова была охрана лагеря.
Состав пленных здесь был уже иной, многие находились в плену более года, исхудалые, обессиленные, оборванные, свыкшиеся со своим рабским положением и не мечтавшие о побеге.
С нашим прибытием положение несколько изменилось.
Через три дня трое убежали, хотя я знал, что цель их побега не в партизанские отряды или попытка перейти фронт, а домой на Украину, где у организатора побега брат был бургомистром волости. Комендант лагеря объявил, что впредь за каждого убежавшего будут расстреливать двенадцать пленных.
Нога моя стала заживать, и я решил готовиться к побегу. Необходимо подобрать товарища, узнать местность, где леса, в каком направлении, есть ли партизаны. А где узнать?
Однажды я лежал и грелся на солнце недалеко от проволочного заграждения, в это время старик белорус, пасший немецких коров, подогнал их близко к проволочному заграждению. Немцев рядом не было, и я решил спросить старика кое о чем:
«Дедушка! - негромко молвил я, - как вы живете? Обижают немцы?»
«Немцы для того и прибыли к нам, чтобы обижать, все брать и ничего нам не давать», - угрюмо ответил старик.
«Дедушка, а далеко отсюда леса?»
«Лес? Вон видишь, всего километр отсюда. И так он и пойдет всё на юг вплоть до брянских лесов.»
«А партизаны есть, дедушка, в лесах?»
«Есть, куда они девались.»
С вышки крикнул что-то немец, и старик погнал свое стадо прочь от лагеря. Вот все, что мне удалось узнать.
Теперь дело осталось за подбором товарища к побегу. Это тоже было нелегкое дело, шпионов и предателей было немало среди пленных. Большинство разуверилось в победе Красной Армии, ибо тогда было в самом разгаре летнее наступление немцев на Сталинград. Это немцы усиленно и приукрашено объявляли пленным. Большинство лагерных узников показались мне людьми уже измученными, безвольными, с тупой покорностью к своему рабскому положению.
Лежа внизу на нарах в темную ночь, я слушаю, как вздыхая, кто-нибудь заговорит:
«Погибнем все как мухи! Сами немцы говорят, что нам жизни только до зимы, а там все сами подохнем!»
«Бежать надо», - пробую я вставить свое замечание.
« Эх, куда мы побежим, все равно поймают и расстреляют.»
Были и подозрительные типы.
Помню одного, фамилия его была Михайлов, родом, как он говорил из Москвы. Выдавал себя за писателя и поэта. Небольшого роста, корявое лицо, глаза «мороженные», тусклые. В плену с сентября 1941 года, то есть уже «перезимовавший». Меня он звал «сибиряк» дядя Саша, таково было мое имя в плену.
«Дядя Саша, - говорит иногда он вечером, лежа на нарах, - чего бы тебе хотелось теперь?»
«Хотелось бы мне, - говорю я, - в родную уральскую тайгу. Посмотреть еще раз ее дикую суровую природу. Походить с ружьем по необъятным лесам.»
«Эх ты, лесной человек. Мне бы в Москву попасть. Занялся бы я спекуляцией на «хитром рынке». Вот где жизнь, дядя Саша. Купишь, перепродашь, смотришь, в день рублей триста и «наживешь».
А жена торговала у меня летом в киоске морсом, пивом. Недольет в каждую кружку пива или морса, пена поднимется как бы сполна, и знаешь, в день составлялось рублей 500-600. Вот, когда мы жили! Пили, ели, что хотели.»
«Ну как же ты, советский писатель, занимался таким делом?»
« А ничего, одно другому не мешало. Знаешь, дядя Саша, я ведь и здесь пробовал писать стихи.»
« Что же, о чем ты писал?»
«Написал я хвалебную оду Гитлеру: «Тебя родил двадцатый век…» и так далее и тому подобное. Восхвалял. Думал, немцы учтут и паек прибавят.»
«Ну и как прибавили?»
«Ага. Отсидел в гестапо пять недель. Сначала сочли, что я чего-то оскорбительное написал, потом разобрались, отпустили. Еще дали четыре килограмма колбасы, две булки хлеба за то, что безвинно сидел!»
«Экий «слизняк» и «сволочь,- думал я, - ведь жил же в Советском Союзе и никак нельзя было увидеть, что человек такая гадина.»
Впоследствии, будучи уже партизаном, мне пришлось однажды читать немецкую газету, издававшуюся для белорусского населения. В газете был помещен пасквиль, по поводу введения ношения погонов в Красной Армии. Статья была за подписью «Михайлов».
«Все же выслужился, сволочь», - подумал я, - эх, попался бы ты ко мне теперь, прописал я бы тебе «оду»!»
Однажды в группе пленных развернулись оживленные прения по поводу событий на фронте. Часть пленных доказывали неизбежное поражение Советского Союза в войне. Один высоченный детина доказывал, что немцы всё равно победят. «Уж мы тогда расправимся с коммунистами,- смаковал он,- за всё, за всех им отплатим».
«Я же до революции имел 70 лошадей, жил в Симбирской губернии. Все пришлось бросить и самому бежать в Сибирь, иначе раскулачили бы и сослали меня, честного труженика! А теперь мы снова заживем, Бог даст, а уж куманьков их со всей породой вырежем». Лицо его было жадно и свирепо.
«Дурак ты, сволочь и предатель!» – раздался твердый голос.
Я посмотрел, кто это говорил. Пожилой пленный, лет сорок, плотного сложения, широкий «маковкой» нос, глубокие серые глаза и тонкая, как у молодого, талия.
«Ты что лаешься! Ты сам, наверное, коммунист. Вот я скажу немцам, заноешь тогда.»
« Дурак ты потому, - говорил незнакомец, - что поверил немцам. Да разве можно победить Россию! Когда это бывало в истории!
А сволочь ты, потому, что при советской власти ты замаскировался и скрывался где-то. Да и вредил нам, без сомнения. А вот теперь ты стал ещё и предателем. Ждешь ты чего-то хорошего от немцев, да ты сам подохнешь здесь от голода, а, погоди, придет Красная Армия, мы тебя сами повесим!»
Еще несколько негодующих голосов раздались в адрес предателя и он, смутившись, побрел в свой барак.
С незнакомцем, так бесстрашно выступившим против изменника, я решил познакомиться и стал искать встречи с ним. Случай скоро представился.
Глава 4. Побег.
Как-то, бродя по лагерю, я увидел моего незнакомца, он сидел на сваленном дереве и рубил топором сучья для печки. Я подошел и сел с ним рядом. У меня еще был табак – выменял на часы. Табак считался у нас как самая невероятная драгоценность. Завернул я цигарку и предложил ему закурить. Глаза его прямо таки блеснули от удовольствия. Блаженно затянувшись табачным дымом, мы осторожно начали разговор.
Звали его Козлов Михаил Петрович. Житель Курганской области. В нашей ЗУ под Ржевом он был старшим телефонистом при штабе. Участвовал в зимнем наступлении и перенёс окружение. Мы оказались «земляками-уральцами» и это нас сблизило.
« Если бы нашелся товарищ, то я бы убежал из лагеря, - говорил Козлов, - все равно здесь погибнем ни за что.»
«Я тоже ищу товарища», - промолвил я.
Мы быстро сговорились.
« Теперь, - говорю я, - давай готовиться к побегу.»
-«Что ж мне готовиться? У меня все готово.»
«А обувь есть?»
«Ничего нет, я босой.»
«Ну, вот видишь, и я босой. Значит, нам с тобой надо достать мешок и из него сшить обутки. Ведь придется бежать ночью лесами, болотами и босые ноги быстро испортим.
Во-вторых, надо иметь какие-либо ножи, спички.
И, в-третьих, надо дождаться наиболее темной ночи. Хорошо бы сильный дождь, тогда немецкие часовые будут стоять где-либо под навесом, не будут ходить возле проволоки. Куда же ты думаешь бежать?» - спросил я Козлова.
« А я прямо не знаю, бежать, только бы куда-нибудь, мне все равно.»
« Э, брат, так нельзя, надо заранее иметь план и направление. Я думаю так, если мы где-либо встретим партизан, то будем проситься, чтобы нас приняли, и мы останемся с ними. Если же никаких партизан здесь нет, то пойдем к фронту левее Витебска в район Великих Лук, там места лесные, и мы с тобой попытаемся перейти фронт. Согласен?»
«Я на все согласен, лишь бы вырваться из рук этих гадов.»
Вскоре мы добыли мешок за две пайки хлеба и сшили себе обутки. Достали спичек и ножи и стали ждать темной ночки.
Не решен был вопрос, как перебраться через проволочное заграждение. Я предложил подыскать доску и положить ее сразу на четвертый ряд высокого заграждения, а потом по ней перескочить за первый ряд проволоки, перетащить доску и положить ее на короткие колья и перейти ко второму ряду проволочного забора. Козлов предлагал просто пролезть низом через проволочное заграждение.
Так по-настоящему и не решили.
Ночь на 8 сентября 1942 года выбрана нами для побега. С вечера полил сильный дождь, сверкала молния, гремел гром, стало так темно, что буквально не видно ничего рядом с собой. В бараке все уже спят, одиннадцать часов ночи. Я сижу в полной темноте внизу на нарах, поджидая Козлова. Все у меня уже готово. Неслышно в двери вошел Козлов, нащупал меня в темноте и положил руку на мое плечо. Мы вышли из барака, дождь по-прежнему льёт, как из ведра, темень ужасная. Подошли к проволочному заграждению…
Слышно как усиленно бьется сердце в груди. Сейчас! Или смерть, или свобода…
Я поднимаю нижнюю проволоку, и мой товарищ лезет в образовавшуюся дыру. Все тихо, патруль, по-видимому, где-то укрылся от дождя. Козлов запутался в проволоке между высокими рядами, шинель трещит, слышу озлобленную ругань, снова треск шинели, звон проволоки.
«Эх, услышат немцы», думаю я.
Вдруг все стало тихо- тихо. Где Козлов? Прополз ли он? Ничего не видно и не слышно.
Теперь моя очередь.
Я поднимаю нижний ряд проволоки, готовясь пролезть по следам моего предшественника.
Вдруг громкие немецкие голоса раздаются в углу проволочного заграждения нашего лагеря.
Яркий свет двух карманных фонарей направлен в мою сторону! Немецкий патруль движется прямо на меня, но пока ещё не ближе, чем 200 метров! Положение становится критическим!
Пролезть обычным путем я теперь не успею!
И я решился на отчаянный шаг.
Сразу закинул ногу на четвертый ряд проволоки, подпрыгнул, ухватился рукой за вершину столба и в одно мгновение перекинулся через проволочный забор первого ряда. Встал ногами на короткие колья. Два, три шага по коротким кольям, проваливаюсь между ними! Вскакиваю, шинель, штаны летят в клочья, из разорванных рук льется кровь…
Ничего не чувствую, никакой боли, в голове одна мысль: «Смерть или свобода». Вот я добрался до второго ряда проволочного забора, закинул ногу на четвертый ряд, ухватился за вершину столбика…
Как ветром перекинуло меня на другую сторону. В ладонь и пальцы правой руки глубоко впились колючки проволоки…
Ох! Всей тяжестью своею я повис рукой на проволоке, не доставая ногами земли.
Дергаю руку, слышу как хрустит рвущееся мясо на руке и пальцах, но боли почти не чувствую, все тело горит в каком-то внутреннем огне.
Скорее!
Наконец оторвался и кинулся прочь от заграждения в темное поле!
Все это показалось мне вечностью, а на самом деле я потратил всего несколько секунд.
Метрах в тридцати от заграждения из темноты поднялся Козлов, обрадовано зашептал: «Как я напугался, когда патруль пошел на тебя, думал, останешься ты там, куда я пойду один? Молодец, очень ты быстро перехватил».
Мы взялись за руки, и пошли по направлению к лесу. Дождь шел, не переставая, лужи воды повсюду под ногами. Кровь течет из рук, смешивается с водой, течет и на руку товарища, перевязывать нет времени.
«Свобода, свобода!», - все поет в нашем сознании. Спотыкаясь, падая в ямы, в окопы, мы все же не сбились с пути и добрались до опушки леса в полутора километрах от лагеря. Повернули вправо по опушке леса, отошли еще около километра. Ужасно темно, плохо ориентироваться...
И мы решили переждать до рассвета. Забрались под густую ель, сели плотно друг к другу, я снял свою огромную шинель, накинул ее сверху на обоих. Стало тепло, и мы оба задремали.
Когда я открыл глаза, дождя уже не было, небо прояснилось, на востоке уже загоралась заря. Я разбудил товарища.
« Ну, вставай, Михаил Петрович, пошли дальше.»
Теперь, по заре, мы свободно ориентировались и лесной просекой пошли на юг. Прошли километра два, лес кончился, впереди чистое поле. Где начнется следующий лес, мы не знали и пошли полем на юг…
Глава 5. Наши мытарства в поисках партизан.
... Начинало светать. Вскоре подошли к деревне, наткнулись на картофельное поле. Сняли свои мешки и принялись копать картошку. Быстро наполнили походные сумы и двинулись дальше. Деревня была расположена поперек нашего пути, пересечь ее мы боялись, а вдруг немцы в деревне... или полиция. Деревня оказалась очень большая, шли не менее двух километров, и конца всё не видно было. Речка круто повернула на юг поперек деревни, берега ее довольно густо были покрыты кустарником, и мы решили перейти деревню этой урёмой. За деревней видны были снова чистые поля, но километра за полтора вдали синел еловый лес, и мы направились туда.
В поле мы наткнулись на молотильный сарай, в нем мигали фонари, стучали цепи, шла молотьба вручную. Возле дверей сарая на обрубке дерева сидел древний старик, курил трубочку. Огромная седая борода его спускалась до пояса, большие жилистые руки, сутулые широкие плечи, умные хитрые глаза. Крепкий еще старик.
Белорусские старики в (отличие от наших сибиряков) очень разговорчивы. Они вежливы, очень хитры и смышлёны. Мы сели рядом на бревно, старик предложил махорки. С удовольствием закурили и разговорились. Старик не спрашивал, кто мы, откуда и куда, он все понимал.
«Дедушка, есть у вас тут немцы?»
«Нет их здесь. Немцы только в Червино.»
«А сколько отсюда до Червина?»
«До Червина, да вёрст двенадцать будет.»
(«Значит, - подумали мы,- прошли мы уже четырнадцать километров!»)
«И далеко до того леса, дедушка?»
«Нет, вон видите! Так он и пойдет всё на юг лентой. До Шклова и дальше до Могилева, и до брянских лесов.»
«Как вам живется, дедушка, при немца?»
«Ох, и не говори, сынок. Все берут, грабят. Видишь, ночью молотим? Заставляют везти сдавать хлеб по 25 пудов с гектара!»
«Ну и как, повезёте сдавать?»
Старик хитро улыбнулся.
«Да везли один раз. Дорогой напали партизаны, завернули нас в лес, ехали, ехали, а потом приказали копать яму. Сложили в яму наши мешки с хлебом, заровняли землей и говорят: «Вот, старики, придёт зима, или мы, или вы воспользуетесь этим хлебом, а немцам - «фигу». Вот и сегодня собираемся везти... Да вряд ли довезём, опять получится то же самое...»
И старик хитро сощурил глаза, чуть улыбнувшись себе в бороду.
«Не найти ведь нам теперь, где хлеб и закопали - ночью же дело было. А молодежь нашу немцы многих забрали и угнали в Германию. Меня бургомистр наш тоже мобилизовал было волость сторожить, да скоро прогнали обратно.»
«А почему тебя прогнали, дедушка, из сторожей - то?»
«Да так, неприятное слово сказал немецкому офицеру одному, ну и прогнали. Дело-то было так.
- Сижу я на крылечке волости... караулю, значит. В волость много всякого народу гонят, бывает и ночью.
Уборной - то нет, ну и навалили кругом всей хаты этой, волости. Вонь такая, что нос зажимать. Бургомистр мне не раз говорил: «ты бы хоть навел порядок, пройти нельзя, воняет, стыдно будет перед немцами за такое свинство», а я сижу себе, хоть бы что, привык.
Приехал однажды немецкий офицер, увидел наше «благоустройство», сморщился, аж позеленел от злости и кричит на меня:
-Лус швайн, старый человек а порядка у вас нет!
- Так точно, ваше благородие, - говорю я, - нет у нас порядка, если бы порядок -то у нас был, так мы бы теперь у вас в Берлине «испражнялись».
- Немец, хорошо, что не всё понял, что я сказал... Ну а бургомистр после этого прогнал меня, говорит, с тобой беды наживешь.»
Старик дал нам пол - булки хлеба, горсть махорки, мы поблагодарили и зашагали к синеющей невдалеке опушке леса.
Недалеко от этой лесной опушки на лугах паслись стреноженные кони. Позванивали на разные голоса колокольца, подвешенные на шеи лошадей. Дымились костры, возле них сидели ребятишки, пасшие коней и, не замечая нас, о чем-то оживленно разговаривали. Эта мирная картина напоминала нам наше детство, «ночное», как любил я когда-то сидеть ночью у костра, слушать интересные рассказы о ведьмах, леших ("шишигах" – по - уральски), русалках. Слушать, как крякают утки в камышах…
«А теперь мы, -думал я, - люди «без рода, без племени», вне закона, окружены врагами. И единственное наше желание - приобрести возможность снова начать борьбу с коварным врагом, который топчет нашу родную землю!»
Вскоре мы вошли в лес. Уже совершенно рассвело. Солнце золотило верхушки деревьев. Тихо кругом, ничто не шелохнёт, птицы поют на разные голоса, воздух чист, наполнен лесным ароматом. Как хорошо бы сейчас лечь у дерева отдохнуть, сварить и поесть горячей картошки, но надо идти - мы еще не отошли и пятнадцати километров от страшного лагеря.
Лес длинной лентой уходит далеко на юг с поворотами, зигзагами, с перерывами. Видны отдельные деревушки, хутора. Их нам приходится обходить, делая большие зигзаги опушкой леса. Иначе нельзя, кто знает, на что в деревне или в хуторе можно наткнуться? На немцев или полицейских?
Отошли еще километров пять. Мой товарищ не утерпел и обратился ко мне с предложением отдохнуть и сварить свежей картошки, я согласился. Углубились подальше в лес, нашли яму с хорошей водой, зачерпнули котелки, развели в густой заросли леса огонь и сварили картошку.
Никогда в жизни мы, наверное, не ели с таким аппетитом горячую рассыпчатую картошку! Три раза наполняли котелки новой картошкой и все съели. А потом покурили и оба мгновенно уснули.
Проснулись мы уже в самый полдень, стояла тихая теплая погода. Козлов потянулся, лежа на спине посмотрел в синее небо, улыбнулся самой счастливой улыбкой и промолвил, обращаясь ко мне:
«Как хорошо - то, Александр Кузьмич! Снова мы на свободе, нет теперь над нами никакой палки. Вот так лежал бы я без конца, прямо до самой смерти, в небо глядел. Эх, как хорошо в лесу, и главное – мы свободные люди, и никому сейчас, никому не подчиняемся!»
«Да, Михаил Петрович! Мы с тобой освободили себя от немецкого плена. Но ведь это не всё, мы находимся на оккупированной территории, окружены коварным и жестоким врагом. Наши братья на фронте гибнут во имя спасения нашей Родины, а мы с тобой ещё пока никакой пользы Родине не даём. Наша задача - найти партизан, присоединиться к ним и драться с фашистами, мстить проклятым немцам за слезы, кровь и разорение нашего народа, в этом теперь наша задача.»
И тут я рассказал Козлову правду о себе: кто я и мое настоящее имя и фамилию. Мой товарищ сначала как-то недоверчиво посмотрел на меня и сказал:
«Ну вот, и зовут тебя не так, как ты говорил в лагере, и черт знает, кто ты такой...»
Я рассмеялся.
«Брось, Михаил Петрович, я не провокатор, ты сам пойми, нельзя было иначе, не мог ведь я довериться, не узнавши тебя.
Вообще, Михаил Петрович, давай будем осторожны, не доверять и населению. Знаешь, предателей и шпионов немцы имеют немало среди населения.»
Козлов успокоился.
«А..., ну что же, мне ведь все равно как звать тебя. Звал Александром, теперь буду звать Михаилом. И я Михаил, мы с тобой, значит «тезки».»
Покурили, поговорили и снова двинулись дальше лесом.
К вечеру мы подошли к какой-то довольно большой деревне влево от нас за небольшой речкой. Впереди нас лес кончался, и на опушке виднелась какая-то большая кирпичная постройка. Чтобы добраться до следующего леса, надо было пересечь довольно большое поле, в котором население жало вручную ячмень и овес. Выйдя на опушку, стали наблюдать за деревней.
По улице ходили какие-то люди.
Но кто такие? Разобрать трудно. Вдруг мое внимание привлек человек, сидящий на завалинке хаты. Приглядевшись внимательно, мне показалось, что человек одет в немецкий, мышиного цвета, мундир.
«Козлов, смотри хорошенько, ведь это немец.»
Козлов посмотрел:
«Да, похоже, что немец. Здоровый человек не будет в такой день сидеть на завалинке, когда «страда» и люди все на поле.»
Ждать ночи, чтобы перейти поле, нам сильно не хотелось. Недалеко от нас в конце деревни проходил глубокий овраг, который кончался в середине поля.
Решили пробраться оврагом. Это было очень неосторожно с нашей стороны. Но мы тогда еще не осознавали всей опасности.
Оврагом прошли благополучно
Но когда вышли на чистое поле, нас увидели все, кто жали там. Прекратили работу и удивленно смотрели на нас, никто не сказал нам ни слова, но по лицам женщин, по их страху в глазах мы понимали, что в деревне немцы и они могут заметить нас!
Мы кинулись бегом к лесу. Недаром партизаны пели песню «что лес роднее дома стал». Как мы спешили к спасительному лесу и, добежавши, юркнули в глухую лесную чащу.
«Попробуй теперь нас найти»!
Глава 6. Власовцы – народники? Кто такие «народники»?
Мы двинулись напрямую лесом в южном направлении. Уже было темно, когда мы вышли на противоположную опушку леса. В полу - километре от нас чернели крыши какой-то деревни. Приходилось проводить нашу первую ночь в лесу.
«Знаешь, Михаил, - обратился ко мне мой товарищ, - пойду я в деревню, уже очень хочется молока, авось достану.»
«Ну что же, иди! Только осторожнее. Не попадись, пройди сзади в какой-либо двор.»
Козлов отправился, а я сел под дерево и задремал. Через некоторое время он пришел радостный, оживленный.
«Михаил, смотри, полный котелок молока. Да там я выпил больше этого.»
«Ну как тебя приняли белорусы?»
Козлов рассмеялся:
«Знаешь, они никак не верят, что я бежавший из плена, а приняли меня за какого-то «народника». Хозяйка, которая наливала молока, спрашивает меня: «ты что, с поста, что ли, пришел за молоком»?»
« С какого поста?» - спрашиваю я.
« Не притворяйся и не обманывай, - говорит она, - я ведь вижу, что ты -«народник».»
«Что это еще за «народник», - Михаил, ты не знаешь?»
«Не знаю», - ответил я.
Черт знает, что это за название. Все же, я насторожился: «народники» какие-то, «посты».
«Пост… , - думал я, - что-то тут неладное.»
«Михаил, - шептал мой товарищ, - разводи, давай, огонь. Я хлеба принес, поедим с молоком.»
«Нет, Козлов, - возразил я шёпотом, - здесь огня не будем разводить, пойдем вглубь леса, там и огонь разведём, и спать будем.»
Мой товарищ презрительно сжал губы.
«Что, боишься? Ты, оказывается, не из храбрых!»
«Брось дурака валять, - промолвил я, - не в этом храбрость надо показывать, надо быть осторожным. Видишь, вот что это?» И я показал поднятый мной на тропинке, на которой стояли, окурок папиросы.
«Ну и что, окурок и все.»
«Кто же теперь из белорусов курит папиросы, ты подумай! – ответил я, - партизанам тоже негде взять их, папиросы эти. Это курили немцы или полиция.»
Козлов задумался:
«А, ну ладно, быть по-твоему, пойдем в лес.»
Я зачерпнул в низине котелок воды, и мы двинулись вглубь леса. Отошли порядочно, забрались в непроходимую чащу и тут развели огонь. Устроили форменный пир, картошку жарили, с молоком делали «пюре», ели в мундире, наелись так, что я наутро заболел поносом. Вознаграждали себя за голодовку в плену.
Только потом мы узнали, как кстати была принятая мной осторожность.
Лес, которым мы шли, был блокирован изменниками «власовцами», которых тогда белорусы называли «народниками», да и власовцы так приказывали себя именовать.
Местность была на военном положении, все лесные дороги и тропы заняли и стерегли от партизан «власовцы», немцы, полиция.
Ввиду этой блокады, партизаны ушли аж в Лепельский район Витебской области, километров за 250 отсюда. Остались только не успевшие уйти диверсионные группы. Да ещё небольшой отряд партизан под командой Суворова. За этим отрядом и рыскали немцы, власовцы и полиция.
Все потом удивлялись, как мы проскочили в это время и этими лесами! Спасло нас то, что я, охотник и уралец, избегал идти дорожками и тропинками, а шел лесом напрямик по солнцу, невзирая на недовольные бормотания моего товарища, которого все время тянуло или на дорогу или на тропинку.
Всех, кого находили в лесу, невзирая на возраст, пол и личности, враги тут же на месте расстреливали без всякого допроса. Только счастливая случайность спасла нас от этой участи, ибо в тот момент, принимая меры осторожности, я не имел никакого понятия о размерах опасности и окружающей нас обстановке охоты за партизанами.
Ещё не взошло солнце, а мы уже тронулись в путь. Ночью выпала сильная роса и, шагая густой травой, зарослями леса, мы оба сильно промокли. Мой товарищ ругался, требовал пойти или дорогами, или тропинками. Я категорически отказался. Вот и шли мы всё время серединой леса.
Солнце уже начинало всходить, когда мы подошли к хорошей грунтовой дороге («шлях» по-белорусски»), пересекавшей наш путь. Я осторожно стал подбираться к дороге, оглядываясь по сторонам.
Метрах в тридцати от неё на небольшой поляне мы увидели свежевырытый окопчик бруствером к дороге. По свежепримятой подстилке из травы и окуркам было видно, что отсюда только что ушли два человека. Один с автоматом, другой с винтовкой. Это было видно по тому, что на мягком бруствере окопа остался отпечаток «дырявого» кожуха ППШ, а по следам колец на ложе винтовки, она была немецкой. Гвозди на подошве немецких ботинок также ясно отпечатались на следах ушедших. Кто и кого подкарауливал из этой засады, мы точно не могли определить и, отойдя метров тридцать вправо, осторожно вышли на дорогу.
Глава 7. Поцелуй французского «иуды».
Влево от нас, метрах в ста, по обе стороны раскинулась кругом в лесу деревня. В конце деревни отдельно и к нам передом стояли на бугорке четыре домика.
Рядом у дороги была виселица буквой «П», на перекладине висели три трупа. На груди у повешенных приколото по большому белому листу бумаги с надписью большими черными буквами «Бандиты».
Лучи солнца, чуть выйдя из-за леса, ярко освещали головы и грудь несчастных. Двое повешенных были мужчины в холщовых штанах и рубахах, третья была молодая девушка, совершенно голая, длинные русые волосы рассыпались по плечам, чуть-чуть прикрывая щеки. Лицо было белое, а не черное как у повешенных и не обезображено смертью. Она была, по-видимому, убита пулей и уже мертвой повешена. Мужчины - оба не старые, высокого роста. Девушка скорбно склонила голову на бок, ее лицо удивительно напоминало распятого Христа на иконе.
Нам не в первый раз приходилось видеть зверства врагов, но это было в обстановке войны, сожженных деревень, изрытой взрывами земли.
А здесь - тихое ясное утро, молчаливо - зеленеющий лес, тожественно-ликующая природа, мирная, спящая деревня... и трупы повешенных.
Козлов схватил меня за руку:
«Михаил, что это? За что? Вон эту молоденькую… за что, а?»
В глазах его стояли слезы.
« Эти казненные - без сомнения партизаны, Михаил Петрович! Как видишь, война идет и здесь, далеко от фронта, в тылу врага. Война необычная, народная и придет время, мы с тобой отомстим палачам за себя, и за наш народ, и за этих…» Я сглотнул слезу.
Снял пилотку, Козлов тоже. Потом тихо повернулись и пошли прочь от страшного места.
Впоследствии, принимая партизанскую присягу:
«Я - сын моего народа, клянусь беспощадно, дерзко и смело мстить врагам за кровь, слезы и разорение моего народа», - я вспомнил эту картину страшной казни. И мне казалось, что я присягаю и клянусь перед этими мучениками, а не перед отрядом.
Потом мы узнали от жителей, что казненные были партизаны-разведчики отряда Суворова.
В этой деревне они столкнулись с карательным отрядом гитлеровцев, состоявших в большинстве из французов.
В перестрелке эта молодая девушка была смертельно ранена в грудь. Француз, пожилой сержант, подойдя к умирающей, поцеловал ее в лоб, пробормотав что-то на ломаном русском вроде: «потомок воинов якобинского конвента, став в роли палача, душителя свободы отдал дань своим революционным предкам в прощальном поцелуе Иуды». А остальные расправлялись уже с мертвыми, повесив их для устрашения живых.
Все, увиденное нами, насторожило и моего товарища. Он больше уже не ругался и не ворчал, когда я вёл его через чащу леса, болотами. Не по дорогам и тропам, а прямо лесом. Иногда мы встречали заросли малинника, останавливались и как медведи ели вкусную малину.
Часов в двенадцать дня вправо от нас и впереди загремела частая ружейная и пулеметная перестрелка, изредка раскатисто грохотали минные разрывы и взрывы ручных гранат. Что делалось в лесу, мы толком не знали.
Козлов обратился ко мне:
«Я думаю, это немцы стреляют по нашим самолетам.»
«Что ты, Михаил Петрович! – ответил я,- где же самолеты? Их не видно. Это, по-моему, борются партизаны с немцами, не иначе.»
А в душе хотелось мне сказать: «Это умирают партизаны».
«Сколько геройства у русских людей, -думал я, - окруженные врагами, далеко в тылу от фронта, без всякой надежды на помощь, горсть храбрецов ведёт войну против сотен тысяч вооруженных врагов фашистов всех национальностей!»
«Пойдем прямо на выстрелы, - решил я, - может, попадем к партизанам.»
И мы пошли. Стрельба прекратилась, а мы все шли и шли вперед и никого не видели и не встретили, и никаких следов боя не нашли. По-видимому, где-то в лесу произошла короткая и жаркая схватка, но лес широк и где это было? Не скоро найдем.
Солнце клонилось к западу, пахнуло живительной вечерней прохладой, кругом мертвая тишина, как перед грозой. «Почему-то нет ни одной птицы», - молвил мой товарищ. И как бы в ответ на это вправо от нас совсем близко раздалось родное нам «ку-ка-ре-ку».
«Вот и птица сказалась, - засмеялся я, - да еще какая!»
И мы пошли прямо на петушиную песню.
Вышли мы к деревне Орехово Круглянского района Могилевской области. От места нашего заключения отошли мы уже на сорок пять километров.
Деревню Ореховку полукругом с трех сторон окружает лес. Концы полукруга кончаются в четырех километрах от деревни. Дальше лес кончался, и шло широкое поле более тридцати километров. А за этим полем - снова леса вплоть до Минска, Березины, и Полесья. Конечно, с перерывами: с деревнями, хуторами.
Несмотря на поздний вечер, в поле у деревни белорусские женщины, мужчины и подростки, жали ячмень и овес. Мы решили перейти полем на противоположную опушку леса.
Предварительно произвели «разведку». Недалеко от опушки леса жала ячмень молодая высокая женщина. По-пластунски бороздой ячменной полосы мы неслышно подползли к ней и сели, как по команде, на снопы ячменя буквально в пяти шагах от женщины. Обернувшись, чтобы положить жмень ячменя, она увидела нас.
«Не кричать, -угрожающе прошептали мы, - сядьте!». Женщина даже и не вздрогнула, не смутилась, а с любопытством и милой, доброй, родной, русской улыбкой взглянула на нас. Ясно стало для нас, что не так грозен и величав наш вид: худые, оборванные, немытые, безоружные, мы могли возбудить только жалость. Женщина спокойно оглянулась, повела глазами по полю и не торопясь села против нас на снопик ячменя.
«Родненькие мои! Я же думала - мой Андрей. Вы из плена бежали? Миленькие, ой, ведь вы же наверно вовсе не кушали никогда!»
Женщина встала, принесла корзину, достала кусок хлеба и два огурца.
«Покушайте, мои несчастненькие, осталось от обеда.»
Мы с благодарностью взялись за еду.
«Мой Андрей с первого дня был взят, ой, также может быть где-нибудь ходит…»
И слезинки блеснули на ресницах добрых, прекрасных глаз.
Наевшись, мы приступили к расспросам.
«Как живете при немцах, бабонька?»
«Ой, не говорите, что только делается! Рыскают, как звери: немцы, французы, народники, полиция. Гонят в Германию молодой народ, оставили по одной коровушке на три дома, да и тех хотят забрать. Партизанской считают нашу деревню. Ох, не жить нам! Погибли мы, все погибли!»
«Ничего, тётенька, переживем всё, - утешали мы женщину, - придет снова Красная Армия.»
«Ой, придет ли? Уж так хватаются немцы, все они забрали, уже они в Сибири будто бы… Далеко эта Сибирь?»
«Ну, до Сибири они зубы себе поломают! Вот погоди, погонят их, только держись.»
«Ой, если бы так, любенькие.
Куда вы теперь денетесь, несчастненькие? Босые, оборванные, поймают вас немцы или народники, убьют, сразу убьют.»
«Не поймают, тётя.»
«А как вы до зимы доживете? А зимой, что будете делать?
Погибли вы, погибли, мои родненькие, а дома у всех вас дети, жены есть, наверное. Брали мы много пленных к себе «в приймаки», кормились, у нас жили, а теперь немцы запретили и это. Спаси Бог, кусок хлеба дать, убьют, сразу убьют.»
Она почти завыла...
« Ой, куда вы денетесь? Уж жили бы лучше в лагере.»
«Нет, тётенька, мы не пропадем. Встретим партизан и будем вместе с ними воевать. Есть у вас тут партизаны?»
Женщина, вдруг испуганно огляделась кругом.
«Что вы сказали? Да разве можно так говорить! Нет никаких партизан! Ничего я не знаю! Ой, уходите, не знаю я вас. Ничего я не знаю. Вон моя хата у леса на той стороне. Нет никаких партизан, и не спрашивайте меня ни о чем, уходите! Не знаю я вас. Ой, да идите же вы от меня, окаянные, беды с вами наживем!»
Мы покинули перепуганную женщину, ничего не добившись, уползли в кусты и стали ждать ночи.
Совершенно стемнело, когда мы двинулись через поле к противоположной опушке леса. У конца деревни, метрах в двухстах от леса стояла хата, мы решились зайти. В избе тускло горел каганец ("каганец" - черепок, в который наливают сало и кладут светильню). Вошли не слышно и поздоровались, не видя никого. От печки вышла та женщина, с которой мы разговаривали в поле.
«Что вам надо, родненькие?»
«Тетя, дай нам молочка, хлебца и табачку.»
Женщина вздохнула, вышла из избы, оставив нас одних. Вскоре вернулась, неся крынку (горшок) молока, простокваши, пол - булки хлеба и порядочный пучок табаку.
«Возьмите, родненькие, и уходите скорее! Скорее уходите, слышите!»
В голосе её слышалась большая тревога.
Глава 8. Мы встречаем партизанский отряд Суворова.
Бегом мы добежали до опушки леса. Шагнули в лес.
«Стой, руки вверх!». Тихо раздалась команда, звякнули затворы, и черные стволы винтовок направились прямо в нас. Мы подняли руки.
«Окружить!». Нас окружили. Я стал считать, их было восемь. Одеты хорошо, почти все в кожаных тужурках, брюки галифе, часть в ботинках. Один с биноклем. Чисто выбритые, здоровые, молодые. Смотрят с любопытством на нас. Вооружены винтовками без штыков. У одного ручной пулемет, один с ППШ, у каждого за поясом по две гранаты. По такому облику и по всему, я инстинктивно узнал партизан. Нас быстро обшарили.
«Документы есть какие-нибудь?» – обратился к нам один из партизан.
Я улыбнулся: «На что вам документы, товарищи, коли мы сами на лицо?»
Партизаны улыбнулись в ответ: «А почему вы знаете, что мы вам товарищи?»
«Чутьем», - ответил я.
«Ну, это брат, это не всегда удается, на чутье не надо надеяться, а вдруг мы полицейскими окажемся, тогда что?»
« Расстреляете и все! – ответил я.
«Ну, это ни к чему, уж умирать, так с музыкой.»
Подошел, по-видимому, командир, пожилой мужчина лет сорок или даже более, с черной бородкой. Начал допрос:
- Откуда идете?
- Из плена бежали, из города Орши, ст.Червино.
- Когда бежали из лагеря?
- В ночь на восьмое сентября.
- А сегодня десятое, здорово вы прошли. Где шли?
- Все время лесом.
- Слышали сегодня стрельбу в лесу?
- Да, слышали.
- Удивительно, как вы прошли. Лес кругом блокирован немцами. Ну, ваше счастье должно быть.
Нас расспросили обо всем. Пришлось рассказать всю свою биографию. Узнав, что я коммунист, бывший партработник, командир стал мягче.
- Что вы думаете дальше делать?
- Мы бежали из плена с единственной надеждой встретить партизан и вместе с ними продолжать борьбу против врагов. Возьмите нас к себе, мы просим вас.
Командир задумался.
«Знаете что, - заговорил он, - откровенно вам скажу, мы сами сейчас в таком же положении, как и вы. Мы разбиты, базы потеряны, отряд рассыпался кто куда. Я не могу вас взять теперь, в такой обстановке.»
- Что же нам теперь делать?
- Идите вот этой опушкой леса. Придете к деревне Пасырево, четыре километра отсюда. Найдите старосту деревни, не бойтесь, он наш человек, и скажите ему, что Котов просит его оказать вам содействие, замаскируйтесь там в клюквенном болоте, я в нем тоже спасался, и дожидайтесь, мы за вами придем. А вы пока отдохнете и окрепнете. Будьте осторожны. Молодцы вы, что сумели удрать от немцев. Сумейте теперь сохранить себя здесь, вот в таких условиях.
И сколько мы не просили, командир остался непоколебим. Пришлось покориться.
« Где будете ночевать?» – спросил он.
«Здесь в лесу», - ответил я.
«Ну, идите. До скорой встречи, товарищ комиссар», - и он пожал нам руки.
***
А встреча эта состоялась почти через год.
Впоследствии, проходя со своим партизанским отрядом по лесам Белыничского района, мы нашли в лесу могилу с тумбочкой и звездой, на тумбочке были выжжены слова: «Здесь покоятся тела командира партизанского отряда товарища Суворова, комиссара отряда и начальника штаба. Пали смертью храбрых в непрерывном бою с фашистами 25 октября 1942 года».
Волки разрыли могилу, и черепа погибших белели возле памятника.
Страшно неопытными командирами оказались Суворов и его штаб. Их окружили в этом лесу немцы, власовцы и полиция. Выйти из окружения в лесу темной ночью, то есть пробиться отрядом, не было особой трудностью. Сколько раз нам приходилось так пробиваться и всегда без значительных потерь. Суворов же поддался панике, он приказал отряду разбиться на мелкие группы и просочиться, кто как сумеет, сквозь цепи врага. Сам со штабом остался, замаскировавшись в дупле большого дерева, где их нашла немецкая овчарка. Многие партизаны погибли поодиночке, остальные целую зиму бродили по 2-5 человек и бедствовали.
«Взял бы ты меня тогда, -думал я, - не допустил бы я тебя до такой глупости.»
И я приказал придать погребению кости погибших.
***
Попрощавшись, мы углубились порядочно в лес. Выбрали могучий лес, кругом густая роща, развели огонек, постлали веток под себя и крепко уснули.
Впоследствии один из партизан этой группы, оставшийся в живых, рассказал нам, что после нашего ухода они одумались и решили вдруг, что мы - шпионы (у страха глаза велики). Долго искали они нас, чтобы кончить, но так и не нашли. Мы уже стали приобретать порядочный опыт маскировки, становились волками.
Глава 9. Мы решили зимовать. Подготовка зимовки.
И вот, мы снова остались одни.
Теперь я хочу рассказать, что представлял из себя мой напарник М.П. Козлов. Парень он был очень крепкого сложения, никогда не болел простудами, но сердце его иногда «пошаливало». Говор его был очень оригинальный, с полным набором уральских «словечек»: сям (сам), тожно (тоже), заяс (заяц), девша(уважительно - девушка) и тому подобное. Обороты речи его иногда меня до слёз смешили. «Жил я там хорошо, баба одна, знаш, захаживал я к ней часто». Или так: «Иду со гроты» (с огорода), «обрволась, легит котошка» (упала, лежит кошка)… Что «делать» - он говорил «кого делать» или так мог сказануть: «девки с ягодами на базар, много их было у нас».
Козлов был типичный челдон. Хозяйственный, скупой. Вдруг ему показалось, что я много ем против его. И он предложил «добыват пишшу про себя каженому и исть про ся каженому». И даже лозунг привёл: «Каждому – по труду».
В политике разбирался плохо, но бухгалтерию любил безумно. Целые ночи он готов был говорить о том, какие плутни он раскрывал у бухгалтеров, будучи в ревизии. Из всего ленинизма он знал только одно: «Социализм – это учёт». И твёрдо говорил, что без хорошей бухгалтерии никакого социализма немыслимо. Когда впоследствии в партизанах он стал подрывником и ходил взрывать эшелоны противника, я его спросил однажды: «А что, Михаил Петрович, опасная ваша работа?»
«Да! Когда подходишь к железке, то на 99% считаешь себя в могиле. А для жизни остаётся только 1%. Вот его и надо всегда найти».
Он прекрасно ориентировался в местности. В этом было моё слабое место. И я от него многому научился в этом искусстве, в конце концов поборов в себе этот природный недостаток.
Храбрость его была особенной. Бывало, он долго смотрит, прислушивается… и вдруг кинется напролом, не разбирая никакой опасности. Но не выдерживал он неожиданностей.
Однажды лесом мы шли большой группой партизан. Вдруг, сзади нас грянул залп. Козлов как олень ловко прыгнул и моментально удрал в чащу. Да, долго потом над ним хохотали. Выстрел-то был случайным.
А вообще, он был храбрый парень, честный. Ненавидел мародёров. С местным населением обращался хорошо и его далеко вокруг знали.
Наши неудачи на фронте, по его мнению, были потому, что многие командиры не понимали «ни уха, ни рыла», а «задавались очень над солдатами». Причём в доказательство своих слов Козлов всегда приводил примеры «плохих» и «хороших» командиров, только «хороших» командиров у него всегда оказывалось меньше, чем плохих.
В нашу победу над Германией Козлов верил твёрдо потому, что в истории «никто и никогда Россию победить не мог»!
Вот с каким человеком мне пришлось вместе пережить самую страшную в моей жизни зимовку.
Весь следующий день мы подыскивали удобное для зимовки место. Нашли указанную довольно большую поляну с болотом в средине, в котором была пригодная для питья вода. Лес был густой, саженный, полосками и бороздами. Борозды почти тоже заросли, а на полосках между бороздами стала непроходимая сплошная чаща.
В этой чаще мы и решили копать себе землянку. Метрах в четырёхстах от нашего жилья шла трактовая дорога из районного центра «Круглое» в деревню Пасырево. По другую сторону леса, почти в километре от нас, шла другая дорога. От деревни Пасырево до нашего жилья, похоже, было около километра. С дороги хорошо были слышны разговоры проезжающих и пешеходов.
Место для зимовки, выбранное нами, было очень рискованным. По дороге почти каждый день из Круглого проезжали или немцы или полицейские в окрестные деревни. Причем, проезжая лесом, всегда активно обстреливали лес, боясь, по-видимому, партизанской засады.
Выбор места нами основывался на том предположении, что никому в голову не придет возможность проживания кого-либо в таком лесу прямо под носом у врага.
Исходя из этого, мы и землянку строили необычную, это была почти квадратная яма в рост человека длинной и два метра шириной, глубиной всего метр. В ней можно было только сидеть, не задевая потолка. Копать глубже было почти невозможно.
Во первых - земля оказалась твердая как камень.
Во-вторых, мы боялись, что много выброшенной земли некуда будет девать. Копать днём мешали ребятишки, которые сновали по лесу, ища грибы. И если бы кто нас увидел за работой – считай, всё! Дело пропало! О нашем местожительстве будут знать. Поэтому мы торопились быстрее закончить работу и замаскироваться.
В стенке ямы выкопали печку. Дымоход вывели наружу в кусты. Вместо дверей мы просто оставили небольшую дыру, в которую можно было пролезть на брюхе, и затыкалась она пучком связанных вместе сучьев.
Яму перекрыли жердями, закидали землей, землю разровняли так, что никакого бугра не стало заметно. Покрыли сверху мхом и осыпавшейся хвоей, насадили почаще молодых елочек и так искусно замаскировались, что рядом пройдешь - не заметишь наше жилье. В полу землянки, вдоль, сделали углубление для прохода. По обе стороны прохода - лежанки головой к печке.
Так мы приготовились зимовать долгую зиму в тылу у страшного врага. Окна никакого не сделали. Освещали тем, что ночью жгли огонь в печке, а днем иногда открывали отверстие в нашем входе.
Истопив нашу печку, мы закрывали отверстие в трубе прямо из землянки мокрым пучком соломы. От углей в землянке становилось тепло. Недалеко от жилья вырыли яму для картошки, покрыли землей и замаскировали. По ночам ходили за картошкой на поле. Создали неприкосновенный запас, пудов 20 картофеля, на случай «блокады».
Итак, наше жилье было готово. Мы приготовились зимовать.
Глава 10. Страшная зимовка 1942-43 годов.
... Молча стояли мы оба перед дырой в нашу «берлогу».
... Каждый думал свою думу.
Не сбылись мои надежды попасть по осени к партизанам. Организовать свой отряд, нечего было и думать. Приближалась зима, и в этих местах партизаны могли появляться только время от времени, но не проживать постоянно. Да и кто пойдет за нами, за неизвестными людьми, безоружными к тому же.
Здоровых мужчин, конечно, много по белорусским деревням, но они предпочтут прожить зиму дома в тепле. Хлеб у них есть, немцы их не очень пока беспокоят, а там, по весне, видно будет, что делать.
Мы бежали из плена с желанием снова обрести возможность бороться с врагом, а положение заставляло нас бездействовать все зимние месяцы. А впереди какая судьба нас ожидала?
Неизвестно.
Или перенесу зиму или погибну от холода и невзгод, а может быть, по нашему следу нас найдет полиция или немцы и пристрелят в этой яме...
Может быть, мы приготовили себе могилу.
Вообще, мы считали себя людьми, обреченными на гибель, и чувство тяжелой безысходной тоски не покидало нас вплоть до весны.
Наступило 6 ноября 1942 года. Канун дня Великой октябрьской социалистической революции. В ночь на 7-е выпал глубокий снег. Все вокруг было заснежено и нашу землянку окончательно замаскировало.
Высунув голову из норы мы как дикие зверьки озирались кругом. Как теперь пойдем в деревню, когда закончатся все продукты?
След-то никуда не денешь!
Более десяти дней мы не выходили из леса никуда, даже в лес за дровами, пользуясь запасом продовольствия и дров. Снег не растаял, а наоборот. Его выпало еще больше.
Через пятнадцать дней мы доели последние крошки хлеба, как ни экономно расходовали его. Вечером решили пойти в деревню, погода благоприятствовала нам, начинался снегопад. Уже стемнело, когда мы подходили к опушке леса перед деревней. Долго стояли в кустах и прислушивались. Тихо в деревне. Быстро перескочили дорогу и зашли в крайнюю хату. Хозяин удивленно смотрел на нас.
«А мы же думали, что вы давно ушли куда-то, а вы все ещё здесь живете».
«Куда мы пойдем зимой, хозяин.»
«Да, пожалуй, что вам придется здесь зимовать. Ну, ничего, ребята! Не падайте духом, у нас народ хороший, не выдадут и прокормят вас до лета, только будьте сами осторожны.»
В каких-нибудь полчаса мы обошли знакомых мужиков. Нам дали хлеба, картошки, капусты, табаку и даже волокна конопли мне на лапти. С полными сумками мы темной ночью густыми зарослями леса двинулись к своему жилью. Снег валил не переставая и засыпал наши следы.
В землянке затопили печку, стало тепло и светло. Сварили суп из картошки и кислой капусты, вкусно поели, покурили, и на душе как-то стало легче. Принесенные продукты мы пересчитали. Решили, что нам хватит на две недели. Все вокруг завалило снегом, а нашу берлогу теперь не заметишь, даже если и пройдешь прямо над ней.
Так началась наша зимовка. Потянулись однообразные зимние дни. Из своей берлоги мы только выходили за дровами метрах в трех от нас. Сухой ольховник мы ломали на дрова. Печку топили только по ночам. В яме было тепло.
Партизаны больше в деревне не показывались, зато полиция и власовцы наезжали почти каждый день. Их прибытие и отбытие мы всегда знали, потому что проезжая лесом мимо нас они ожесточенно обстреливали лес из винтовок, а иногда и минометным огнем. В тихую погоду до нас отчетливо доносился их разговор.
Самым скверным в нашем положении было то, что мы не мылись в бане и не меняли белье. Пустить нас помыться в бане никто не решался, боялись друг друга. Грязь и паразиты нас буквально заедали. Каждый день мы выходили из землянки, но все равно тело гудело. Кожа становилась твердой как пергамент. Нас начинала давить тоска, и мы почти все время оба молчали. Каждый думал о своём.
Неотступно стоял вопрос – что делать? Где и в чем выход?
Особенно это мучило моего товарища. Почти каждый день он изводил меня одним и тем же вопросом - что будем делать дальше?
« Жить дальше!- отвечал я, - проживем зиму, если не убьют. А не попадем к партизанам, тогда пойдем к фронту и перейдем к своим».
Я начинал вслух рассуждать, где и как можно перейти фронт, вспоминал топографические карты, утешал, как мог, Козлов понемногу успокаивался.
Иногда он выскакивал ночью, хватался за грудь руками и тихим шепотом начинал просить меня что-нибудь рассказать ему:
- Михаил! Душит меня тоска, сердце шалит, - говорил он.
Я разводил огонек в печке, становилось светлее. Над головою шумела снежная вьюга, темная длинная ночь. Я начинал рассказывать, всё, что мной было прочитано раньше. Романы Загоскина: «Русские в 1812 году», «Русские в 1612 году», «Аскольдова могила», что помнил из Пушкина, Лермонтова и других писателей. С советской литературой Козлов и сам был несколько знаком. Долго, иногда до рассвета, говорил я. И сам отвлекался от мрачных мыслей и отвлекал Козлова.
«Ну вот, сразу и легче стало, - говорил он. - А то молчим оба, прямо невыносимо.»
Глава 11. Волк.
Чтобы провести время с какой-либо пользой, я начал преподавать Козлову «Курс политической экономики». Восстанавливал подробно весь материал политической экономики, который я преподавал до войны в техникумах. Надо сказать, что материал, преподаваемый мною, сильно увлёк Козлова, расширяя его политический кругозор.
Он часто говорил мне: «Только теперь я понял, что гибель капитализма неизбежна, а социализм непобедим! И пусть фашисты сейчас радуются временным победами, все равно в конечном итоге мы победим!»
Научное обоснование возникновения и гибели капитализма, неизбежность победы социализма, вселяли в него дух уверенности, бодрости, духовно закаляли для дальнейшей борьбы.
Но томительно и скучно тянулись дни. Мы становились все мрачнее и угрюмее. Что делается на фронте? Ничего нам не известно. Иногда ясной морозной ночью высоко-высоко в небе загудит пропеллер самолета. Как сильно забьется сердце! Не дыша, мы прислушаемся к гудению. Может наш?
В голове начинают бродить фантастические мысли. Вот самолет садится на поляну возле нас. Мы бежим к нему.
- Товарищ! Возьми нас!
Но наш самолет уходит дальше... и мир фантазии прерывается.
...Часто по ночам я вижу сны.
Вот я - молодой, мне всего 18-20 лет. В сатиновой рубахе-косоворотке иду с гармошкой по деревне с гурьбой девушек и ребят. А как я играю! Как пою! Потом пускаюсь в пляску. Пляшу самозабвенно, быстро и легко.
...Иногда я в Ирбите. Темная ночь, на вокзале темно, в городе темно. Почти бегом иду знакомой улицей к своей квартире, сердце усиленно бьется. Вот и квартира. Темно в окнах, холодно в сенях, холод на сердце. Стучу и стучу в двери – ни звука. Дом нежилой. Где семья? Кого спросить? Иду по улицам и забегаю в дома, нет никого. Как я попал сюда? Страх начинает сверлить мозг, и я просыпаюсь. Долго не могу прийти в себя. Где я? Под головой что-то глухо шумит. Что это шумит? Проезжающая по дороге машина...И я по-прежнему в землянке.
И так ночь за ночью.
Однажды рано утром, когда чуть рассвело, пошел я за водой на полянку, где был наш "колодец". Зачерпнул в котелок воды и поставил его на снег.
Почувствовав чей-то взгляд, я оглянулся и на противоположной стороне поляны увидел большого матёрого серого волка! Он сидел на задних лапах, подняв голову, и смотрел на меня жёлтыми, понимающими, твердыми и острыми, просто стальными глазами. Я удивленно глядел на него. Мысленно между нами шел следующий разговор.
Я: - Если бы у меня была винтовка, я бы не убил тебя, потому что мы с тобой в одном положении.
Волк: – Я вижу, потому и сижу спокойно. Но я волк уже 15 лет. А вот ты, ты еще только становишься волком.
Я: – Да, я уважаю тебя, ты жил и живешь всеми гонимый, всеми преследуемый. Ни пуля, ни западня, ни собака, ни белорус, ни немец – ничего с тобой не смогли сделать.
Волк: – А ты думаешь, сразу я стал таким? Нет, годы и годы я много раз боролся за жизнь и, победив смерть, стал волком.
Я: – Я тоже буду волком, хитрым, выносливым, беспощадным, умеющим и бегать, и убивать. Но убивать только один вид животных - я буду душить немцев! Только душить. А мясо тебе!
Волк: – Понимаю, ты будешь душить немцев за то, что по их милости ты стал волком.
А я стал волком по милости всех вас - людей. Прощай!
И Волк тихо скрылся в лесу.
Часть 3. Партизаны-подрывники.
(Из воспоминаний бывшего комиссара 25-го партизанского отряда Шкловской ВОТ)
Глава 1. Встреча в лесу. Зимовщики находят партизанский отряд!
Шел 1943 год. Разгромив немцев под Сталинградом, Советская Армия развертывала победоносное наступление, гоня врага на запад, освобождая города и села Советской Родины. Решительный час расплаты с нашим врагом неумолимо приближался.
Партизанские движения в тылу врага принимали всё более широкие размеры, а в Белоруссии оно перерастало во всенародное восстание. Почва горела под ногами немецких захватчиков. Смерть ждала врага всюду, где бы он ни находился. Партизаны взрывали эшелоны противника с боевой техникой и людьми, разрушали мосты и средства связи, облегчая страдный путь наступающей Советской Армии. Не укрылся от народных мстителей ставленник Гитлера в Белоруссии рейхскомиссар Вильгельм Кубе. Партизанская «маломагнитка» * разорвала его жирное тело в его собственной постели.
(*Маломагниткой называли небольшую мину с часовым механизмом.)
... Белоруссия. Апрель месяц на Могилевщине в этом году был необычайно теплым. Во второй половине апреля снегу не было нигде, даже в глухом лесу. Стояла ясная, тихая, теплая погода.
Партизанский отряд бригады «Чекист», проделав двухсоткилометровый переход через леса, болота и топи, сегодня ночью пришел к месту назначения. За короткую весеннюю ночь партизаны прошли почти семьдесят километров и, как скошенные, повалились на мягкий мох под вековые могучие ели и сосны. Здесь предполагалось пробыть несколько дней, наметить план действий, распределить силы.
Необходимые дозоры и караулы были выставлены, а остальные люди спали вповалку, не поужинав и не разводя огня. Страшная усталость давила каждого к земле.
Наступило 21 апреля 1943 года.
Рано утром солнце ласково позолотило верхушки сосны и елей, а трудолюбивый дятел уже вовсю долбил себе "хлеб насущный".
Проснулись повара, Маша и Катя, развели огонь и принялись готовить завтрак для партизан.
Сгорбившись и повесив голову, шагал взад и вперед командир отряда, товарищ Иванов. Разогревшись вчера при переходе, имел он неосторожность напиться очень холодной воды, и теперь ангина не давала ему покоя.
Когда солнце уже обогрело землю, а завтрак был готов, проснулись остальные партизаны. Вылез из-под своей накидки и комиссар отряда, Счеславский Петр Игнатович, в прошлом инженер-электрик. Красивый мужчина, высокий, стройный, чёрные как смола волосы, лихо закручены усы.
Любили и уважали партизаны своего комиссара. В нём видели своего отца, друга, учителя и боевого товарища-командира.
Комиссар вместе со всеми разделял все невзгоды партизанской жизни, воспитывал людей в духе любви и преданности к Родине, к партии и правительству. Живое слово комиссара заменяло здесь газету, радио, литературу, которыми пользуются люди на «большой земле». Комиссар находил слова утешения для отчаивающихся, вселял уверенность в победе над фашистскими извергами, ежечасно мобилизовал силу и волю людей на борьбу с коварным врагом.
Центральный Комитет Коммунистической партии видел, как нужен и необходим комиссар в партизанских отрядах, и институт комиссаров сохранился до конца партизанской войны.
Комиссар Счеславский взял солдатский котелок, подошел к небольшому бочагу с водой, зачерпнул воды и умылся, привел в порядок усы и волосы и пошел в расположение отряда.
Партизаны, народ в большинстве крепкий, закаленный, уже кончали завтрак. Отоспались за ночь, теперь поели супа, масла с хлебом, картофельного пюре с салом. Они курили и перешучивались возле небольших костров.
« Ребята! – кричит партизан Скорба, – комиссар идет!»
«Ну, как он выглядит?» – кричат ему в ответ.
«Усы накручивает!» - кричит Скорба.
«Ого! Ребята! Значит, опять немцев долбанули», – кричит молодой партизан. Сын Озоренок. Еще в отряде был Озоренок отец.
Партизаны давно уже подметили, что если комиссар закручивает усы, то, значит, Красная Армия опять достигла успехов. Комиссар каждый день получал из штаба бригады сводки Советского информбюро.
На этот раз комиссару не пришлось проводить обычную беседу с партизанами. В лесу показался почти бегом спешащий к лагерю один из партизан секрета, поставленного на ночь, Родионок , парень лет двадцати пяти, здоровый, крепкий.
Подойдя к комиссару, Родионок доложил:
« Товарищ комиссар, на наш секрет, расположенный у просеки на деревню Ореховку наткнулись два человека, бежавшие из немецкого лагеря военнопленных и просят принять их в отряд.»
« Ну и как они выглядят?»
«Очень плохо, товарищ комиссар! Один-то еще ничего, лет сорока пяти, хотя и худой. Но его можно поправить, а другой… Товарищ комиссар, он седой, худющий, высокий, весь обросший, на ногах одни портянки.
Я думаю, ему лет семьдесят пять будет.»
« Ну не может быть, Родионок! Такого возраста в Советскую Армию не призывали. Просто человек отощал в немецком плену.
Ну а что вы им сказали?»
«Мы сказали, что одного, помоложе, можно принять. А старика - нельзя, ему надо где-либо устроиться в деревне, а немцы его по старости не тронут.»
«А он что сказал на это?»
« Ой, товарищ комиссар, и не рады, что так сказали! Такой вредный и ершистый старик, что не дай Боже! Как заорет на нас, так мы, прямо говорю, струсили, а голос-то ведь совсем молодой…»
« Что он вам сказал?»
« Говорит, довольно играть с нами! Уже четыре месяца, как мы бежали из плена. Жили все время в лесу, в норе, ели корни дерева, ни разу не мылись в бане, раз пять встречали партизан, а нам все отказывали в приеме! Немцы три раза делали облаву…
Вас, говорит, молокососов, еще в проекте не было, а я уже дрался за советскую власть, мне говорит, не семьдесят пять лет, а ровно пятьдесят и рано еще вам меня хоронить! Да и не вам меня хоронить. Дай-ка, говорит, руку!»
«Я подал ему руку, товарищ комиссар, так он сук… , ну этот самый старик, как тиснул мне руку, так я белого свету не взвидел. Как железными клешнями тиснул.»
« Мои руки, - говорит он, - за 50 лет жизни построили целые улицы в городах, распахали сотни гектаров земли.»
А потом говорит нам:
«Почему у вас винтовки без штыков?»
Мы говорим:
« В лесу штыки мешают!»
Он говорит:
« Глупости, воевать надо не в лесу, а там где враги есть. А знаете ли вы, что винтовки пристреляны со штыком, а без штыка пуля пойдет вправо?»
« Потом, товарищ комиссар, этот вредный старик говорит: « Иди и доложи своему комиссару. Или вы нас примете в отряд, или вы не партизаны, а трусы. Сохраняете шкуру, отсиживаясь в лесах.». Так и сказал, товарищ комиссар.»
«Гм.., - нахмурился комиссар, - по-видимому, интересный старик.»
Подошел командир отряда, и комиссар рассказал ему, в чем дело.
Подумав немного, командир сказал:
«Возьмем их, Петр Игнатьевич! Если старик в самом деле хилый, то устроим где-либо в деревне, возьмем под контроль, никуда не денется.»
«Веди их!» – кивнул комиссар Родионку.
И вот перед комиссаром стоят два пожилых бойца, познавшие всю тяжесть и ужас Ржевского котла. Попавшие в плен к фашисту, но не сломившиеся. Бежавшие из плена, немыслимо страшно зимовавшие в лесу и, наконец, нашедшие партизанский отряд!
Того, помоложе, звали Козлов Михаил Петрович, бывший старший бухгалтер районной конторы, заготавливал молоко на Урале. Оборванный, грязный, обросший, худой, но коренастый и крепкий.
Комиссар взглянул на «вредного старика» и боль тиснула сердце. Да! Перед ним был седой старик, долговязый и худой как палка, глаза заросли длинными бровями и смотрели на комиссара сурово, но живо. Комиссар сразу убедился, что перед ним не старый и дряхлый человек, а изможденный невзгодами, но сильный духом боец.
Вместо расспросов, комиссар обратился к поварихе Маше, жалостно смотревшей на бежавших из немецкой смертной неволи.
«Маша! Покорми чем-нибудь товарищей!»
Через несколько минут оба "новеньких" с жадностью ели вкусный черный хлеб с жирным мясным супом, потом ели пюре и даже котлеты, которые Маша приготовила для комиссара и командира отряда.
Партизанам сильно хотелось подойти посмотреть, поговорить с вновь прибывшим, но из чувства такта они не делали этого, пусть голодные люди наедятся и придут в себя.
Действительно, оба старика «постарались» над котелком и как-то оба «оттаяли». А когда, пообедав, закурили хорошей самосадной махорки, то суровые глаза старика и черты его лица стали мягче, человечнее.
«Привада!» – позвал комиссар молодого, белокурого, стройного, довольно приятного на лицо партизана.
- Возьми вот этих двух товарищей к себе во взвод и приведи их в «божеский» вид.
«Пошли со мной, товарищи!» – обратился Привада к новичкам.
Через несколько минут «вредный старик», как его называл Родионок, был в центре внимания всего второго взвода Андрея Привады.
Почти весь взвод состоял из белорусских ребят. Старше двадцати восьми лет было всего два человека: отделенный Купневский и сапожник Шаповалов.
Белорусы любят и почитают мать-отца, а те в свою очередь - очень нежные родители. Белорусы также любят и уважают «россиян», так они называют русских братьев.
Старика подстригли, побрили, один достал из мешка хорошие немецкие ботинки, другой пару белья, третий новые суконные брюки, снятые с убитого финна, дали почти новую суконную гимнастерку, простреленную автоматной очередью – в грудь "на вылет".
Старик нагрел ведро воды у костра, недалеко был хороший водоем. Оба вновь вступившие в отряд помылись и, действительно, оба сразу приняли «божеский вид».
Старик оказался членом партии с 1931 года, был взят в Советскую Армию с партийной работы, был завотделом пропаганды и агитации райкома, имел образование, хорошо начитан. Попал он в плен к немцам в конце июля 1942 года раненый, истекший кровью и сильно оглушенный, контуженный в голову. Едва оправившись от ранения, он бежал из лагеря военнопленных вместе с товарищем. Четыре месяца скитались по лесам, голодали, рана снова открылась и гноилась.
Долго ночью у костра слушали партизаны рассказ «ученого старика» о России. Непоколебимой верой в силу Советского народа была пронизана его речь, она пленила и зажигала сердца партизан священной ненавистью к врагам.
Кличка «ученый старик» так и осталась за ним весь его дальнейший путь:
- рядовой партизан,
- пропагандист Шкловского райкома партии,
- оперуполномоченный отряда,
- комиссар отряда.
Ни один партизан (не только в отряде, но и в бригаде) не мог с ним равняться в выносливости в походах. Тяжелый труд тридцати лет закалил это организм как гибкую сталь. Он в одиночку мог тащить на себе через белорусские топи станковый пулемёт.
Его товарищ, Козлов М.П., пошел в группу молодых ребят, комсомольцев – подрывников: «Будет нам дедок обед готовить, нашим, так сказать, завхозом», - говорили ребята.
«Видите ли, ребята, я уже можно сказать полгода был на девяносто девять процентов в могиле, - серьезно отвечал бывший бухгалтер, - а с вами как буду?»
«С нами ты будешь в могиле процентов на пятьдесят, не более», – утешали комсомольцы.
Козлов оказался незаменимым товарищем. Прекрасно ориентировался ночью, а это очень важно для подрывников. Был храбр и решителен, в деле его считали составной частью боевой группы. Ни одна операция не проходила без его участия.
Кроме того, он оказался неутомимым изобретателем по части различных партизанских сюрпризов немцам. Он не давал «комсе» ни отдыха, ни сроку.
Он ввёл среди ребят лозунг:
«Немцам не хочется умирать - надо помочь им умереть».
Когда "вредный", а теперь - «ученый старик», будучи оперуполномоченным отряда спросил подрывников, с которыми был его товарищ по скитаниям, как им нравится Козлов Михаил Петрович, комсомольцы смеялись, ответили: с этим твоим Козловым, когда находишься на девяносто девять процентов в могиле всегда он этот оставшийся процент находит! И все живы!
Глава 2. Пускать фашистские эшелоны под откос!
...Партизанская группа подрывников энского отряда уже больше месяца жила в лесу, километрах в 15-20 от железной дороги Орша – Могилев. Из шести человек состава группы пятеро были комсомольцы.
Командиром подрывной группы был Агатов Алексей Алексеевич, окончил семилетку, бригадир в колхозе. Был заброшен с «большой земли» в тыл врага для организации партизанского движения.
Политически Алексей был подготовлен неплохо для комсомольца, вожака колхозной молодежи. Он был силен, крепок, широк в плечах, настоящий волгарь. «Красивый россиянин» - называли его белорусы. Говорил Алексей мало, не торопясь, никогда не ругался, был вежлив в обращении с товарищами. Его сильно любило местное население и все звали этого молодого комсомольца за его скромность и степенность по имени-отчеству – Алексей Алексеевич. Комсомольцы его группы шли за ним в огонь и в воду. Случалось, Алексей иногда выпивал, тогда он становился веселым, оживленным, чудно пел саратовские частушки и плясал лихо и ловко «русского».
В его песнях и припевах перед каждым вставала могучая, необъятная широта и красота нашей Родины. Величавая ширь и глубь красавицы Волги, живописные, овеянные романтикой былого, события. Как звучала из его уст песня «Из-за острова, на стрежень…». Любили песни Алексея и партизаны с «большой земли», и белорусы.
Весельчаком в комсомольской группе был Андрей Ловко. Хорошо играл на гитаре и сочинял уморительные частушки про Гитлера, Риббентропа и других немецких офицеров. Ломко окончил 10 классов и хорошо знал немецкий язык.
Третий комсомолец, Янек Шустак, был богатырского сложения и страшной силы парень. Немцы в Минске расстреляли всю его семью – отца, мать, брата и сестру. Рассказывали, что при разгроме немецкого гарнизона, Янек, взяв в плен гитлеровцев, хватал их в обе руки, высоко поднимал в воздух и со всего размаха бросал головой вниз на каменное полотно шоссе. Немало пришлось поработать комиссару, чтобы отучить Янека от необузданных порывов мести.
Четвертым в группе Алексея был комсомолец Миша Савчук, бежавший еле живой из немецкого концлагеря. Был он упорен в бою, надежен и смел. Один раз он зимой километра два босой бежал за удиравшим немцем. Догнал и пристрелил.
Но любимцем всей группы был самый юный комсомолец - Василек Озоренок. Ему было всего семнадцать лет, морально чистый, веселый, жизнерадостный, безумно храбрый, этот юноша воплощал в себе все черты ленинского орлиного племени комсомола.
Не один эшелон противника спустила группа Алексея под откос. Под обломками вагонов нашли себе могилу тысяча четыреста гитлеровских мерзавцев.
Группой была уничтожена масса техники врага. В конце концов, немцы рассвирепели от таких потерь! Ведь таких групп, как группа Алексея, в Белоруссии действовали сотни!
Гитлеровские военные власти снабдили придорожную полосу различным фашистским сбродом: лесными финнами, марокканскими каторжниками, собаками с ошейниками. Настроили у железных дорог укрепленные гарнизоны с артиллерией и минометами. Жестокий террор обрушился на население Белоруссии. За связи с партизанами белорусских патриотов вешали, зарывали живыми в землю!
День и ночь по железнодорожной линии ходили немецкие патрули, шквальным огнем автоматов обстреливали каждый кустик и бугорок. Ночью освещали местность ракетами, дорожки, тропинки на путях к «железке» стерегли засады босых марокканцев, которым за каждого убитого партизана давали деньги и месяц отпуска.
Впереди паровоза немцы стали пускать одну-две пустые платформы.
Три раза уже ходила группа Алексея к «железке» и всё безрезультатно. Два раза заложенные мины снимали немецкие патрули. Одна мина взорвалась, но разбила только передовую пустую платформу. Немцы поезда вели тихим ходом, и взрыв поезда не повредил.
Всякий раз храбрецам приходилось выходить из положения, о котором Козлов говорил: «на девяносто девять процентов были в могиле».
Вслед уходившим партизанам взвивались ослепительно белого цвета ракеты, глухо ухали гарнизонные пушки немцев. Стреляли немцы, куда попало. От взрывов снарядов и мин в окрестных деревнях звенели стекла в окнах. Тоскливо сжимались сердца белорусских девушек, далеко не равнодушных к молодым партизанам.
«Божечки милый! Как полыхает и гукает у железки, вернутся ли?». Старушки, вставая с постели, и открыв окна, крестили ночной мрак и молились о «спасении рабов Божьих».
«Комса» возвращалась в свое лесное гнездо. Сутки спали мертвецким сном. И сутки бодрствовал Козлов. Караулил.
Вставали, мыли изорванные икры ног, ссадины, ушибы, а потом опять шли… Группа подрывников имела агентурную разведку, без этого нельзя было жить и одного дня.
Глава 3. И погиб Василёк, прощай, молодая любовь...
В соседней деревне у юного Озоренка была знакомая по школе, девушка Маруся, которая хорошо овладела искусством разведки и снабжала данными группу подрывников. Сегодня Озоренок попросил у командира партизанского отряда, Алексея, разрешения сходить в деревню к связной Марусе. Алексей улыбнулся и разрешил, он давно знал, что Озоренок и Маруся любят друг друга чистой юношеской любовью. Маруся с радостью встретила молодого партизана, она ждала его давно.
«Василёк, - шептала Маруся, - сегодня в деревню пришел какой-то подозрительный старик. В дубленом овчинном полушубке, в лаптях, с уздечкой в руках, говорит, лошадь потерялась, так он её ищет. Главное, что меня смущает, так это - стриженая у него голова! А ведь наши старики всегда носят длинные волосы!» Глаза Василька сразу загорелись любопытством.
« Где этот старик? Идем, Маруся.»
Старик сидел за столом у колхозного бригадира Фадея и с аппетитом ел горячую картошку, уздечка лежала возле него на лавке.
« Разрешите Вас спросить? Вы из какой деревне будете?» - начал вежливо Василек.
« Из села Раского, молодец», - слегка улыбаясь, ответил старик.
« Из Раского, - обрадовался Василек, - а как там живет горбатый Яков Иванович?»
«Ничего»,- слегка замявшись, ответил старик.
«Мучила его лихорадка, а теперь поправился, огород весь засадил, яровые посеял.»
Глаза Озоренка весело засверкали.
«Первый раз слышу, что мертвые могут лихорадкой болеть, огороды садить и яровые сеять.»
«Могут, молодец, могут. Мертвые могут и болеть, и выздоравливать, и даже воевать, а потом опять умирать», - весело сверкая глазами, ответил старик.
«Вот недавно я получил письмо из дому. Так жена сообщает мне, что ей давно прислали известие о моей смерти, а ты видишь, я живой и тебя я знаю, кто ты такой. Ты - Озоренок Василек.»
Василек в изумлении выпучил глаза на старика…
« Постой, ты кто такой, старик?»
« Я не просто старик, я «ученый старик», передай привет Михаилу Петровичу, всем передай.»
Василек порывисто бросился вперед и обнял старика. Маруся разочарованно смотрела на эту сцену. Потом вышли Василек и старик из хаты, легли на лужайку в небольшом садике и Василек все рассказал «ученому старику» о своих неудачах.
« Вот что, - начал старик, - я выполнил задание, оставаться долго с вами не могу, а ты передай Алексею, что к нам в отряд прислали опытного человека подрывного дела товарища Ключ. С Урала прислала его челябинская партийная организация, он сейчас как раз в Раскино, не у того Горбатого, на котором я попался тебе, у другого, Мокса. Мне кажется, в ваших неудачах во многом виноват взрывной механизм мины. Вы ставите мину шомполом и его видно. Вот почему патрули снимают ваши мины. Кроме того, шомпол мины пригибается специально приспособленной доской пустых платформ, идущих впереди паровоза, и мина взрывается, не повредив паровоза. Идите в Раское, Ключ настроит вам мину нажимного действия. Причем, он такой виртуоз в этом деле, что его мина взорвется только под тяжестью паровоза.»
Прохладны влажные весенние ночи в Белоруссии. Седые туманы стелются по низинам рек, оврагов. Большое обилие топких зыбучих болот. Тучи комаров и мошкары ослепляют глаза, забираются в нос, уши. Словом, большую надо привычку, чтобы сохранять спокойствие в такой обстановке.
Группа подрывников, под командой Алексея, темной глухой ночью пробирались в сторону «железки» с новой миной, которой снабдил их уральский большевик, товарищ Ключ. Мина была почти в два раза сильнее прежней, нажимного действия, но чтобы поставить такую мину, надо порядочно времени.
Шли партизаны гуськом, то есть длинной цепочкой метрах в шести друг от друга, так всегда ходили партизаны.
Во-первых, меньше будет потерь, если враг где-либо откроет огонь из засады.
Во-вторых, ложась, партизаны сразу образуют цепь на любую сторону.
Через час ходьбы останавливались где-либо в укромном местечке и осторожно курили, уткнув самокрутку в рукав. Потом опять шли, разговаривать строго запрещено.
На этот раз партизаны решили перейти линию железной дороги, углубиться на ту сторону, километра на два повернув налево. Дойти до болота и по кромке болота под прямым углом опять повернуть налево. Дойти до железной дороги, залечь в болотных камышах и заложить мину при выходе железной дороги из выемки на болото.
Та сторона дороги, к которой подходили партизаны, была лесной, а другая сторона - степной. Партизаны всегда подходили с лесной стороны и уходили на лесную сторону.
Но группа Алексея для закладки мины на этот раз решила подойти с противоположной, степной стороны, где меньше было опасности встретить немцев.
Погода благоприятствовала партизанам, небо было покрыто тучами, шел мелкий дождичек, и весенняя ночь была темна как могила. Не дойдя до железной дороги по кромке болота метров четыреста, партизаны залегли. На разведку к полотну пополз Ломко. Скоро он вернулся обратно и сообщил, что у железной дороги никого нет.
« Янек и Озорёнок, пойдем со мной ставить мину», - распорядился Алексей.
«Козлов, оставайся здесь и охраняй с тыла.»
«Ломко, бегом по полотну на болото, заляг с бесшумкой в болото и бей, если немцы пойдут в нашу сторону.»
-«Савчук, иди охраняй нас с левой стороны, когда мина будет поставлена.
Пять раз крякнет утка в болоте, тогда идите к нам все.»
Алексей и Янек ставили мину под железнодорожную рельсу. Озорёнок относил в подоле рубахи землю и ссыпал ее в болото поблизости, в густые камыши.
Наконец мина поставлена, следы копки тщательно засыпаны снова гравием и пять раз подряд Василёк крякнул уткой. Подошли сторожившие партизаны и, по распоряжению Алексея, все залегли в камыши, недалеко от того места, где была заложена мина.
«Если пойдет немецкий патруль и заметит «нашу работу», - распоряжался Алексей, - бить из автоматов на уничтожение. Если не заметят мины, не стрелять.»
Алексей взглянул на ручные часы со светившимся циферблатом. Было половина двенадцатого, и далеко у разъезда №8 завыл паровозный гудок. Шел вражеский эшелон.
Вдруг, на полотне железной дороги через болото блеснул яркий белый свет электрического ручного фонаря. Навстречу идущему поезду шел немецкий патруль. Патруль был из двух немцев и одного русского полицейского, проводника, по-видимому.
Партизаны сжали в руках автоматы, направили их в сторону полотна и затаили дыхание…
Вот уже патруль у того места, где заложена мина.
«Заметят»,- с тоской думает каждый...
Вдруг, о счастье!
Фонарик отказал! Перестал светить, и пока другой немец достал и включил свой фонарик, рубеж, где была мина, уже был позади.
Все облегченно вздохнули, но радоваться было рано.
Патруль уже ушел дальше метров на двести, когда на полотне железной дороги засопела немецкая овчарка. В своем усердии она, обнюхивая обочины дороги, отстала от патруля.
Теперь собака напала на след Ломко в том месте, где он охранял правый фланг минёров. Овчарка жадно потянула носом воздух и направилась по следу, туда, где лежали партизаны. Ночь мешала видеть собаку, но по её сопению, партизаны безошибочно определяли её поведение и намерения.
Ломко был вооружен винтовкой с бесшумной дульной накладкой. Быстро всё сообразив, он кинулся навстречу собаке. Приемы немецкой овчарки несложны, она идет по следу своей жертвы молча, чтобы не пугать. И когда ее отделяет от жертвы только один прыжок, она взвизгивает. Преследуемый оборачивается на визг, собака бросается ему на грудь, хватает зубами за горло, но не рвет, а душит мертвой хваткой.
На этот раз обстановка для собаки получилась совершенно иная. Жертва сама ринулась навстречу преследователю. Собака оторопела и встала, мгновение для прыжка было упущено. Сверкающие в темноте глаза собаки встретились с не менее сверкающими глазами человека!
Не теряя ни мгновения, Ломко выстрелил в пылающие зрачки врага. Бесшумка хлопнула как стручок гороха, раздавленный ногой, а овчарка забилась в судорогах смерти. Ломко облегченно вздохнул.
Тяжелым вздохом загудели рельсы, ночная тишь наполнилась раскатами грохота, поезд мчался к «месту своего назначения». Было двенадцать часов ночи. Поезд шел без огней, немцы спали... что снилась в эти минуты «завоевателям Европы»?
«Гады! - злобно прошептал Янек, - не уйдете…»
Поезд подходил все ближе и ближе, яркий блеск огненных глаз паровоза осветил то место, где его ждала партизанская мина.
Партизаны закрыли глаза, их сердца замерли в страшном торжественном ожидании...
Огромный огненный столб высоко поднялся в темноте, озарив ночное небо и окрестности страшным багровым заревом. От сильного взрыва земля заколебалась под залегшими партизанами. Поднятые силою взрыва высоко в небо песок и щебень градом посыпались на смельчаков.
Громовой раскат взрыва волнами распространялся по окрестным полям, лесам, деревням, оповещая, что жива Беларусь! И мстит она немецким оккупантам.
Кровь за кровь и смерть за смерть!
Силою взрыва разбило в куски паровоз! Далеко разбросало рельсы и шпалы. На одно мгновение поезд, казалось, остановится... Но вдруг, в стремительном беге страшной силой энергии и тяжести, ринулся состав под откос, в пучину болота. В визге и грохоте вагоны громоздились друг на друга, лопались как мыльные пузыри, превращаясь в груды обломков. Машины и танки врага прыгали с платформ в болото. Орудийные стволы танков торчали как хоботы утонувших в болоте слонов.
Снова последовал взрыв, и сплошное море огня и дыма покрыло место катастрофы. Это взорвались цистерны! Струи пылающего бензина пожирали все на своём пути.
Воздух наполнился смрадом горящих трупов врага. Дикие вопли, стоны, предсмертные хрипения раздавленных, сожженных заживо, наполнили сердца отважных партизан огнем удовлетворения священной мести и гордостью за дело рук своих.
«Смерть фашистским гадам!» – сильным голосом гремел Савчук.
И они, вместе с пламенным Озорёнком, открыли яростный огонь из автоматов по гибнувшему эшелону.
« Прекратить огонь!» - кричал Алексей!
«Не тратить патроны! Сдохнут без нас, фашистские гады! Ко мне! Козлов, веди! Бегом марш!»
И партизаны, что было сил, кинулись бежать в лес на другую строну дороги.
Обгоревшие трупы немецких солдат, погибших при взрыве эшелона, хоронили потом на отдельном немецком кладбище. Хоронили ночью полицаи. Немцев не допускали, дабы не смущать дух солдат "немецкой непобедимой армии".
Поставленный немцами кладбищенским сторожем Гаврилович был в прошлом и в настоящем горьким пьяницей. Он усердно помогал в похоронах и получил за это бутылку шнапса. Напившись, как же он бормотал, улыбаясь пьяной улыбкой: « И возить бы вам, не перевозить, таскать, не перетаскать!». Затем он стал незаметно снимать наиболее хорошие брюки с убитых, причитывая: «На что они вам, штаны и рубашки, милые папочки, господь Бог и так вас примет в царствие немецкое, и так примет…».
Было похоронено двести пятьдесят четыре трупа.
Группа Алексея благополучно миновала наиболее опасные места и подходила уже к небольшому лесу по другую сторону Шклова.
Взбешенный враг в безумной злобе теперь уже неистовствовал позади. Глухо ухали пушки Шкловского гарнизона, снаряды рвались, где попало, немцы вели бесприцельный огонь, ослепительные ракеты бороздили небо, появились даже самолеты с Оршинского аэродрома, кидали бомбы и мины, обстреливали землю из пулеметов.
Обратившись к товарищам, Козлов улыбнулся:
«С каким почетом нас провожают, ребята, на свадьбе моей так не было! Ну, я думаю, мы теперь на восемьдесят процентов в безопасности.»
Рано успокоился Козлов. Напрасно он свернул на заброшенную лесную дорожку. Впереди чуть слышно хрустнул сломанный прелый сук… Мгновенно партизаны залегли, только молодой Василёк остался стоять, пытливым взором осматривая кусты впереди себя.
И это мгновение было смертельным для юноши.
В упор по партизану загремели винтовочные выстрелы вражеской засады. С тихим стоном, как подрезанный колос, опустился на землю молодой партизан.
Товарищи открыли сильный огонь из автоматов по засевшему впереди противнику.
Ломко быстро отстегнул гранату и бросил в сторону врага. От взрыва гранаты раскатами гудел разбуженный лес. Трусливый враг не ожидал такого отпора и кинулся удирать, оставив одного убитого и одного смертельно раненого гитлеровца.
Партизаны бросились к сраженному товарищу:
«Василёк, милый, что с тобой? Куда ранен?»
Юноша молчал, тяжело дыша. Могучий Янек бережно как ребенка поднял раненного, пробежал метров триста до густого леса и тихо опустил на землю под большой развесистой елью. Наклонившись, в темноте партизаны рассматривали, куда ранен их товарищ...
И вдруг с ужасом отвели глаза!
… На земле они увидели волочившиеся внутренности несчастного товарища. Разрывная пуля разворотила живот, и ладонями рук юноша пытался удержать их от выпадения. Мертвая бледность покрыла молодое прекрасное лицо. Когда-то полные жизни и молодого задора глаза покрылись тусклой пеленой неимоверной боли и муки.
Собрав остаток сил, раненый тихо, отрывисто заговорил:
«Что же вы стоите! Уходите! Враги вернутся, берегите себя для дела… уходите! Я требую – слышите!»
Алексей склонился к умирающему, тихо и твердо промолвил:
«Мы тебя не можем бросить, Василёк! Перевяжем и понесем… Слышишь, ты будешь жить!»
«Не можете оставить? Так я вам помогу.»
Никто не заметил, как умирающий опустил одну руку в карман брюк, достал маленький трофейный пистолет и тихо промолвил:
«Не говорите маме, что я… я умер… потом… скажите… потом… , что я умер за свой народ, за Родину, за Советскую власть… .»
Василек резко вскинул правую руку и выстрелил себе в висок, отбросил руку с пистолетом в сторону. И замолк навсегда.
Обнажив головы, молча, стояли боевые друзья вокруг тела любимого товарища и слезы текли из глаз их на суровые лица.
Вечная слава тебе, юный герой, отдавший молодую жизнь за Советскую Родину. Долго будут помнить тебя молодые и старые друзья, и боевые товарищи.
Долго еще твоя мама будет спрашивать проходящих через ее деревню партизан: «жив ли, здоров ли ее сынок». Скажут ей партизаны, что жив ее Василёк и вечно будет жить.
Скоро узнает о смерти Василька его любимая боевая подруга Маруся. Горько, горько зарыдает она, и долго с тоской будет смотреть в ту сторону, где погиб ее милый.
Пройдут годы, зарастет глубокая сердечная рана бедной девушки. Много прекрасных юношей в нашей стране, и найдет ее сердце другого. Но и тогда, когда она будет растить своих сыновей, лаская их, она будет шептать:
«Растите и будьте такими, каким был Василёк, любите также свою Родину, свой народ, как любил Василёк. Так же храбры и мужественны будьте, каким был он, Озорёнок Василёк!»
Весной с сосен, растущих над бывшими окопами, льются прозрачные слёзы смолы...
Трепещут горькие осинки.
Они страшатся новых битв.
Смолу как слёзы льют хвоинки
Над теми, кто в земле лежит.
Глава 4.Тяжёлый разговор с бабкой Агриппиной.
...На следующую ночь разразилась бурная весенняя гроза. Яростные раскаты грома гремели победным салютом наступающему лету. Сильный ветер, как тростинки, гнул могучие ели и сосны. Сухие деревья, много видевшие на своём веку ветров и гроз, не выдерживали бешеного натиска весенней бури, с треском ломались и падали на землю. И тогда лес гудел глухой пушечной пальбой. Дождь хлестал как из прорвавшейся плотины, покрывая шумом водопада разбушевавшийся лес.
Группа подрывников, добравшись до своего лагеря, спала мертвым сном. Напряженные до крайней степени нервы, мускулы и всё тело властно требовали сна и отдыха. Хорошо и уютно в партизанском шалаше из плотной коры столетних елей, никакой дождь не промочит, при какой угодно буре внизу полное затишье, лишь время от времени легкий ветерок, оторвавшийся от бушевавшей вверху бури, промчится понизу... И снова затишье. Ни один враг не рискнет выйти в такую ночь из своего логова.
«Можно спать спокойно, на все сто процентов», - думал дежуривший в эту ночь Козлов и перед рассветом тоже крепко заснул.
Проснулся он скоро, было уже светло, гроза прошла, буря утихла и в лесу стала торжественная тишина. Ни звука, ни шелеста в храме природы. Напоённая досыта весенним дождем земля дышала запахом лесных испарений. Взошло солнце. Умытый лес животворным смолистым запахом бодрил отдохнувшие за ночь нервы и тело.
Козлов блаженно улыбнулся, потянулся всем телом, вздыхая полной грудью благодатный лесной воздух.
«Какая благодать! Как хорошо жить», - тихо промолвил он, и ему вспомнилась его родная сторона, широкие просторы курганских степей с тучными плодородными чернозёмами. Шумят и гудят трактора в степях, скрипят колхозные телеги, подвозя воду, горючее, зерно для посева.
«Эх! Теперь вовсю идет посевная, люди посеяли процентов шестьдесят - семьдесят, когда-то мы вернемся к мирному труду? И суждено ли нам вернуться?»
«Что день грядущий нам готовит!» – вслух продекламировал Козлов и принялся готовить завтрак для спящих товарищей.
Он принес воды, умылся, развел огонек, начистил картошки, нарезал тонкими ломтиками мясо и заварил жирный вкусный суп. Приготовил картофельное пюре с салом.
Партизаны при возможности любили хорошо и вкусно покушать, зная, что не всегда придётся, а силы и здоровье требуются всегда, иначе не боец будешь.
Солнце уже высоко поднялось над лесом, когда проснулись остальные товарищи Козлова. Партизаны умылись, достали бритву, прикрепили кусочек зеркала на деревянный сук и по очереди побрились. Сытно позавтракав, каждый занялся своим делом: чистили, смазывали оружие, оттачивали поясные ножи, чинили изорванную одежду.
Только командир группы подрывников, Алексей, чувствовал себя скверно. Смерть Озоренка, которого он сильно любил, лишила его обычного равновесия, ему хотелось чем-то сильно встряхнуться, забыться на мгновение...
«Надо выпить», - решил он и направился в деревню, сказав товарищам, чтобы никуда не уходили, что он скоро придет обратно.
Придя в деревню и убедившись, что все в порядке, то есть, немцев нет, Алексей направился к знакомой бабке Агриппине. Сварливая и бурная была бабка Агриппина. Острая и злая на язык. Иногда такое наговорит, что Алексей угрожающе предупреждал:
«Антисоветчину ты говоришь бабка! И если бы я не знал, что у тебя три сына в Советской Армии, а ты была первой ударницей в колхозе, я мог бы тебя «к стенке приставить».
Хата бабки Агриппины была невысока, крыта соломой, с маленькими окнами и широкими простенками. Пол в хате бережно постлан и всегда чисто вымыт. Печь невероятно большая, стол покрыт белой скатертью, а «божница» увешена белыми искусно вышитыми полотенцами, на левой стороне хаты – чисто и опрятно убранная кровать. Двери из избы выходили в широкие сени с крылечком на улицу и дверью на двор к хлевам и скотскому пригону.
«Здравствуй, бабушка!» – промолвил Алексей, входя в хату.
«Здравствуй!» – бросила бабка Агриппина, не поворачивая головы.
Стояла она на коленях на полу и усердно отбирала картофель для посадки. Бабка была сильно не в духе. Соседи уже давно посадили «бульбу», а у нее и огород еще не вскопан. Лошадей в деревне всего осталось три на все сорок дворов. Здоровые бабы и мужики вскопали огород лопатами, а бабка уже не в силах была выполнять такую тяжелую работу, растеряла она свою силу, вдовая более двадцати лет с тремя сыновьями и двумя дочерьми. Теперь осталась она одна одинёшенька.
« Как здоровье, бабушка? Как самочувствие и что поделываешь?»
Многословье Алексея бабке сразу не понравилось, она повернула голову и пытливо взглянула на Алексея.
«Что наша жизнь, мука одна, а не жизнь. Придется, по-видимому, издыхать с голоду! Хлеба нет, еще осенью немцы забрали. Картошку бы надо давно сажать, да чем землю пахать? Лошади нет, тоже немцы забрали! Да и вы на наших же лошадях разъезжаете. Лопатой копать - нет сил. Молочка и то уже два года во рту не было – коров-то тоже немцы позабирали!
«Вот нашла о чем горевать бабушка, мы не сеем и не жнем, а весело живем, не горюем, а воюем!»
Старался развеселить Алексей бабку, но шутка пришлась сильно не по месту.
Этого было достаточно, чтобы скверное настроение бабки Агриппины ярко прорвалось наружу, а ее злой язык понес «антисоветчину».
« Что сказал: не сеем и не жнем! Да чем вы все живёте? Кто вас кормит? Кто одевает? Кто вас в бане моет? Кто вас охраняет от немцев и полицаев? Мы ведь, всё мы! Без нас вы бы пропали, немцы бы вас переловили как курей слепых!»
Алексей понял, что сказал не то. Да уж было поздно. Он попытался утихомирить бабку.
« Мы питаемся за счет немецких обозов, которые отбиваем!»
« Что? Каждый день вы отбиваете обозы? Сами-то иной раз еле ноги уносите. Вот тебе - "и не сеем, и не жнем"! Хорошо бы я не сеяла и не жала! Нацепила бы твою сковородку себе на брюхо и ходила – я герой! Я партизан!»
И бабка, выпятив живот и подхватив руками бедра, прошла по комнате перед Алексеем. Алексей, не в первый раз видя выходки со стороны бабки Агриппины, не растерялся.
«Ну, уж ты зря шумишь и разоряешься! Ну, берем у вас! Но ведь мы вас защищаем!»
«Защитнички! – взвизгнула бабка, – здорово вы нас защитили! Кто драпал в сорок первом году от немцев из Белоруссии, кто нас оставил на растерзание и разорение?
Божечки мой! Что только было: пехота бежит, артиллерия скачет, конница топает. Как подумаю… От кого вы бежите, такие сильные, молодые, вооруженные?
А потом пришли немцы! Едут на машинах, веселые, пьяные, по пояс голые, загорают на нашем солнце, гогочут, песни поют, радио на машинах и повозках играет. Им весело, а для нас, хуже похоронного марша. В одной руке колбасу ест, в другой губную гармошку держит, вшивые, грязные. Кричат нам: «Лус! Москау капут! Москау капут!».
«Божечки милый! - думаем, - от кого вы бежите, наши солдатики? От такого вшивого барахла бежите! Почему так получилось, а? Почему? Скажи, почему? Да потому, что не знали мы немцев, считали их людьми, злобы у нас мало было против немцев.»
Алексей растерялся.
«А ты знаешь, бабка, за такие речи…да знаешь ли ты, какие мы дела делаем.»
«Ай, не говори ты мне, Алексей, подумаешь, герой. Взрываете, взрываете эшелоны, а немцев всё не убывает, всё ещё они на нашей земле. Расхвастался своим геройством!»
«Ты бы лучше нашел где-либо лошадь, да помог огород вспахать, «бульбу» садить надо, время уходит.»
Возбуждение бабки Агриппины как-то так улеглось, и безысходная нужда тискала сердце.
Посадить «бульбу» для бабки было самое главное, «альфа и омега её жизни». Будет посажена её «бульбочка», будет она расти, будет жить и бабка Агриппина, будет в ней расти надежда на жизнь.
А жить ей нужно для того, чтобы встретить своих сыновей, которые где-то там, далеко-далеко вместе с миллионами других советских людей пробивают тяжелую дорогу победе, дорогу на запад, на освобождение родной Белоруссии.
Встретить своих соколов, прижать их к горячему и страдавшему сердцу, омыть слезами радости их огрубелые в боях и невзгодах лица. Встреть сынов, значит, встретить радость освобождения и счастья свободного труда, насладиться гибелью ненавистного врага, который покрал, растоптал все, для чего живут, трудятся, страдают, учатся и думают люди, а для этого надо жить, бороться и ждать.
А чтобы жить, бороться и ждать, надо для этого садить «бульбочку», кормиться самой, кормить партизан, которые отсюда с тыла врага облегчают страдный путь наступления Советской Армии на запад.
Жаль Алексею бабку, понимал он её грубую жестокую правду... И тогда он, как всегда, медленно и твердо проговорил:
«Лошадь я тебе приведу сегодня же вечером, свою. Приготовь однокопный плуг и борону. Я сам тебе вспашу огород, а ты будешь садить «бульбу».
Вскоре Алексей сидел за деревянным столом. Кружка стояла, была и сковородка с горячей вкусной яичницей со свиным салом. Нашелся и отличный черный хлеб. И, главное, то нашлось, из-за чего Алексей весь «огород городил», бутылка самогона, крепкого как спирт. Бабка сидела, принарядившись напротив Алексея, выпила две маленькие рюмочки самогона и заметно оживлялась. Алексей пил самогон из большого чайного стакана, крепкая водка разжигала его молодую горячую кровь. Шел мирный разговор.
«Лешка! – мягко говорила бабка, – ты уже не сердись, что я тебе наговорила, ведь так тяжело! Так тяжело на сердце. Разве мы живем… это ведь не жизнь, это медленная тягучая смерть. Каждую минуту жди, вот придут проклятые немцы, «матка яйки, матка масло»!
«Говорят они каким-то собачьим языком, по-нашему, да по-ихнему. Как-то осенью зашел ко мне один такой верзила, пьяный немного. Сел на лавку возле меня и лопочет чёрт знает что.
Я ему говорю:
- Все вы забрали у нас окаянные!
Он, знай, лопочет: «я, матка, я».
- Хлеб, - говорю, забрали, - бульбу забрали.
Он свое: «я, матка, я».
- Коровушек наших тоже забрали!
-«Я, матка, я».
- А которые и остались коровы, так яловые, хотят быков, а быков тоже вы забрали!
Он, знай, свое бормочет: «я матка, я».
- Кто же, - говорю ему, - коровушек будет доить?
А он опять: «я матка, я».
Алексей засмеялся на остроту бабки, а та продолжала:
«Знаешь, Алексей, когда я жила в колхозе, то никогда не думала и не видела, как мы хорошо живем, а всё было мало, всё чем-нибудь, да недовольны были.
Бывало, пошлют трактористам обед нести, и то сердились. Вот, думаем, жили без этих тракторов, а теперь трактористов корми, да еще и за трактор плати хлебом.
А теперь проснулась как-то недавно рано утром, и вдруг слышу, трактор гудит в поле, так обрадовалась, а потом опомнилась, ведь это немецкая машина идет... И так больно заныло сердце, что и не скажешь.
Придет бывало праздник Октябрьской революции, меня на торжественном собрании колхозников в президиум выбирали в первую очередь. Премию давали, хвалили за работу, а я сижу и думаю, вот я какая знатная стала - как панна раньше. Ребятишкам у нас в колхозе жилось хорошо, были ясли, детский садик, а как кормили их, свежее молоко, творог, масло. Росли ребятишки здоровые, краснощекие, толстые такие.
А теперь, Божечки милый, жалобно на них глядеть, худые, бледные, оборванные, не только молока, хлеба чистого, сколько уже не ели. Только «бульбочка» и спасает, немцы пока еще не добрались до нее. Как вспомнишь все это, так тяжело на сердце станет.
Только теперь каждый из нас увидел, что мы отдали проклятым немцам, а почему мы отдали, Алексей?
Потому, что не понимали, что мы теряем.
А если бы понимали, ни за что не отдали такую жизнь, лучше бы умереть всем до единого.
Вот только теперь озлобился наш народ по-настоящему на немцев. Теперь я начинаю верить, что не выдержит немец и побежит из Белоруссии!
Жили ведь мы в колхозе дружно, ругались только из-за работы, кто мало, кто плохо делал. А в беде никто никого не бросал!
Вот и я ведь выкормила своих сыновей и выучила, два офицерами стали, придут ли они, мои ясные соколы, увижу ли я их!»
Алексей утешал бабку, говорил, что скоро придет Советская Армия, а мы отсюда поможем ей. Бабка ласково смотрела на Алексея, он напоминал ей сыновей, такие же, как он, здоровые, молодые, только ростом были выше.
Вечером Алексей пахал и боронил бабкин огород, а бабка садила «бульбу».
Савчук и Янек Болдин лежали в секрете на окраинах деревни, охраняя труд пахаря...
Заключение к мемуарам моего деда.
«...Савчук и Янек Болдин лежали в секрете на окраинах деревни, охраняя труд пахаря...»
***
На этих строках мемуары моего деда обрываются. Он дожил до Великой победы, был награждён медалями и Орденом Красного Знамени.
После войны вернулся в родной Ирбит. И узнал о геройской гибели своего младшего брата Ивана под Львовом...
Генерал-майор Иван Павлович Пичугин погиб в бою во Львовской области 6 августа 1944 года и был похоронен во Львове на Холме Славы.
Был он награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно) и медалями.
Оплакал мой дед, Михаил Павлович, своего брата, поцеловал свою жену, мою бабушку Анастасию Амвросиевну, прижал к себе двух подросших за долгие пять лет войны сыновей...уж и не чаявших увидеть отца живым.
И продолжил работу в Ирбитском районном комитете партии в той же должности должности заведующего отделом пропаганды и агитации.
Потом он долго работал в Исполкоме...Выучились его два сына в Омском лесотехническом институте, стали инженерами-механиками. Мой отец, Николай, уехал работать в Свердловск на Уралмаш. А Вовка, младший, чей образ так часто вставал перед глазами отца в страшные минуты военных испытаний, вернулся жить с родителями в Ирбит. Туда, в их дом и жену привёл, пошли внучата...
Когда я была совсем ещё крохотным дошколёнком, меня родители отправили пожить в Ирбит - к деду и бабушке. И тогда узнала я и суровый уральский нрав и нежную уральскую преданность.
Дед Миша, как был коммунистом, так и остался до конца. Первой моей песней, выученной в детстве, был Интернационал. Дед водил меня "к коммунистам", как я тогда говорила, я залезала на табурет и пела старикам во весь голос.
Дед рассказывал мне на ночь одну и ту же уральскую сказку "Сума, дай мне ума"... Вот и заложились во мне основы мировоззрения и понимания путей добра и зла.
Он не был добреньким дедушкой. Он был великий человек. И величие его духа я чувствовала всегда.
Светлая память.
Настоящему советскому человеку.
Моему деду, Михаилу Павловичу Пичугину.
Как дальний маяк над глубинами моря
Всем путь указующе солнце встаёт.
Как белые брови морского прибоя,
Туманы седые над полем вразлёт...
И льются, играя, цвета перламутра.
И в волнах тумана встают миражи:
Далёкое детство, уральское утро,
И с дедушкой в лес мы идём по грибы.
Картины пригрезятся сладкою болью:
Под полог берёз на заре попадём,
Как вкусен грибок, припорошенный солью!
На прутике жарим его над костром.
Лесную науку серьезно, как в церкви,
Мой дед мне рассказывал, он вспоминал,
Как путь отыскал по нехоженым дебрям,
Как выжил в лесу, партизан как искал.
Как другом был лес, неподкупным и верным...
Такое величье сквозило в словах...
Хоть многое и не поняла я, наверно,
Но сердцем увидела правду в глазах.
Суровый и горький рассказ партизана
Ребёнку неполных пяти-то годков,
Под жаркое пламя костра средь тумана,
Не здесь ли все таинства жизни основ?.
https://cont.ws/@mamalama2021/2161566
